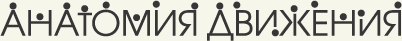ОЧЕРК ПЯТЫЙ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ1
Из всех областей вопросов, относящихся к компетенции общей физиологии, ни одна не является столь специфически человеческой, как область физиологии двигательных функций, несмотря на наличие и здесь бесспорной и непрерывной преемственности от филогенетических предков. Дело в том, что больше ни в одной системе физиологических функций не имел места такой интенсивный и вдобавок убыстряющийся филогенетический прогресс. Едва ли мы смогли бы отметить существенные сдвиги в смысле эволюционного прогресса между любым представителем теплокровных и человеком в какой бы то ни было иной функциональной сфере, хотя бы в области вегетативных функций дыхания, кровообращения, обмена и т. д.2 Исключение в смысле, несомненно, еще более бурного прогресса составляет только область явлений психической жизни, или, как нам будет удобнее для связного контекста обозначать ее здесь, область центральных замыкательных систем нервного аппарата. Но тот самый вопрос метода, который послужил к ее выделению в самостоятельную научную ветвь, создает здесь непреодолимое добавочное осложнение. Если бы мы захотели представить упомянутый прогресс графически, то для функции дыхания или обмена он изобразился бы линией, вряд ли существенно отклоняющейся — в пределах филогенеза теплокровных — от параллельности с осью абсцисс. Кривая развития психических функций имела бы все основания выглядеть на подобном графике очень круто восходящей кверху. Но, к сожалению, мы имели бы объективное право отметить на чертеже только ее самую правую (самую верхнюю) площадку, относящуюся к человеку. Вся остальная кривая осталась бы в области гипотез из-за почти полного отсутствия объективного материала, касающегося животных, несмотря на всю героику объединенных усилий зоопсихологов, бихевиористов и кондиционалистов. И только для двигательных отправлений мы можем вполне реально и объективно построить полностью их эволюционную кривую, круто восходящую к правому концу графика и далеко обгоняющую темпами своего развития сам по себе весьма не медленно эволюционирующий их морфологический центрально-нервный субстрат. Уже одно это обстоятельство делает физиологию движений интересной для психолога и невролога, даже независимо от того значения, какое она имеет для них в качестве необходимого pendant к несравненно лучше разработанной отрасли — психофизиологии рецепторных функций.
Но, помимо этого обстоятельства, огромное эволюционное значение двигательной функции оттеняется еще длительностью того срока, в течение которого она занимала ведущее положение в филогенезе соматического аппарата в целом. Рекордный темп роста и эволюции центральных замыкательных систем объясняется именно тем, что этим системам пришлось за тот же промежуток времени проделать больший путь развития: они начали ниже эффекторики, а кончают выше. Руководящая роль как по положению, так и по ведущему значению в филогенетической эволюции досталась этим системам сравнительно недавно, тогда как раньше они исполняли (и сейчас исполняют у менее развитых организмов) значительно более скромные вспомогательные обязанности интегрирующей связи между рецепторикой и эффекторикой. Современный нам массив животного мира — живая книга филогенетической истории — сохранил нам память о ранней биографии этого органа, едва лишь начинавшего (у кишечнополостных и иглокожих) свою впоследствии головокружительную карьеру малозаметной работой связиста, только что введшего в физиологический обиход новый, биоэлектрический («телеграфный») способ связи на место более древнего способа вещественных гуморальных (так сказать, почтовых) сигнальных пересылок. Однако поворотным пунктом в истории центральных замыкательных систем явилось другое обстоятельство — появление продолговатых животных форм на смену древнейшим округло-симметричным (лучистым) формам. Это определило собой преобладание переднего, ротового, конца тела, первым сталкивающегося как с добычей, так и с опасностью, и тем самым оказавшегося перед биологической необходимостью сигнализации всем прочим метамерам, возглавления и объединения их движений и инициативы этих движений. Головной конец становится главным концом. В этом пункте зародыш централизованных нервных систем на месте древних диффузных («рефлексных республик» Икскюлля). Далее, у головных метамеров оказались все предпосылки к возникновению и развитию на них телерецепторов, каждый из которых трансформировался путем уточнения и усовершенствования из одной из древних контактных модальностей (обоняние — из вкусового хеморецептора, слух — из вибрационной, зрение — из кожной фотохимической чувствительности).
Телерецепторы оказались могучим централизующим фактором уже потому, что дали животному возможность реагировать на раздражитель, по сравнению с отдаленностью которого собственные размеры его тела ничтожно малы. Это выдвинуло на первый план локомоторные перемещения в пространстве всего тела как целого, оттеснив в число второстепенных частные метамерные реакции, преобладавшие в эпоху господства тангорецепторов. Биологическая необходимость локомоций и привела к возникновению мощных интегрирующих, синергирующих аппаратов центральной нервной системы. Это были древнейшие во всем филогенезе действительно центральные нервные образования, причем образования, в эволюции позвоночных не превзойденные нигде вплоть до человека в отношении способности к обширнейшим двигательным интеграциям и мышечным синергиям. Я имею в виду таламо-паллидарную двигательную систему или уровень, как она будет называться в дальнейшем изложении.
Попутно выявляется и другая сторона дела, опять-таки обусловленная эволюцией телерецепторов: то, что замечено издали, как правило, тем самым замечено заблаговременно. Это, конечно, имеет особенно важное значение при встрече с опасностью. Такая заблаговременная информация создает для животного возможность осуществления целесообразной цепочки действий, дает ему срок спрятаться, укрыться, приготовиться к активному нападению или самозащите. Но необходимость планирования и организации подобной осмысленной цепочки движений и действий снова имеет необходимой предпосылкой эволюционное усовершенствование центрально-нервных приборов, и в первую очередь эволюцию функции памяти.
Здесь следует попутно остановиться на одном важном эпизоде истории развития, насколько мне известно, не освещенном нигде в сравнительнофизиологической литературе. Речь идет о возникновении поперечнополосатой мускулатуры.
Сократительный элемент поперечнополосатой мышцы появляется в филогенезе с полной внезапностью в том смысле, что нигде не находится следов каких-либо переходных форм к нему от гладкой мышечной клетки. Но заслуживает внимания то, что вместе с поперечнополосатой мышечной тканью возникает целый анатомо-физиологический комплекс новшеств, логическая структура которого прослеживается с полной ясностью и появление которого круто меняет ряд ранее бывших биомеханических отношений.
С контрактильным элементом нового типа выходит на сцену неразделимое сочетание внутренне противоречивых свойств: высокая сократительная быстрота и мощность неразрывно связаны в нем с ограничивающими их свойствами кратковременности активного эпизода с наступающей за ним следом рефрактерностью и жесткими рамками принципа «все или ничего». Образно говоря, за достигнутую высокую мощность пришлось уплатить очень дорогую цену, примиряясь с тем, что новый рабочий элемент в сущности только и способен на краткий, грубый и мощный разряд механической энергии единообразной силы и ни на что больше.
В истории развития ярко вырисовывается, сколько приспособлений отчетливо вспомогательного назначения, так сказать, спасающих положение, обрастает со всех сторон новый («неокинетический») сократительный элемент, чтобы сделать его реально полезным для организма. Эти приспособления начинаются уже в гистологическом плане: активные боуменовы диски поперечнополосатого волокна зарессориваются чередующимися с ними пассивными эластическими (изотропными) дисками, амортизирующими в какой-то степени резкий рывок сокращения активных элементов. Ту же функцию, хотя в меньшей мере, принимают на себя соединительнотканные оболочки и фасции, а в цельной мышце оконечные сухожилия.
В принципе, может быть, еще важнее другое приспособительное нововведение в биомеханике организмов. Начиная с обоих классов обладателей поперечнополосатой мускулатуры, членистоногих и позвоночных, возникают жесткие суставчатые скелеты, каких нет и следа у нижестоящих классов — обладателей только гладкого типа мускулатуры. Необходимость и значение таких скелетов очевидны. Действительно, оснащение неокинетическими мышцами тела червя или моллюска было бы столь же нецелесообразным, как использование отрезка кишки в качестве ружейного ствола. Сочлененные жесткие скелеты создали надежные опорные пункты для приложения механической энергии, освобождаемой новой мышцей, обеспечили для нее рычажные передачи и двигатели для локомоций.
Чрезвычайно интересно, что оба вышеназванных класса животных решили задачу освоения поперечнополосатой мышцы существенно разным образом, как бы представили на конкурс природы два различных проекта использования неокинетики. У членистоногих скелеты частей туловища и конечностей облекают эти части снаружи, наподобие панцирей, и мышцы, приводящие их в движение, помещаются внутри этих трубчатых сочлененных звеньев. Такой план строения снимает задачу биостатики: устойчивость тела достигается вполне пассивно благодаря жесткости и широким габаритам этих панцирей. Убедительной иллюстрацией сказанного может служить то, что осторожно умерщвленное насекомое не падает, что неизбежно случилось бы с любым позвоночным (кроме змеи). Скелетные мышцы несут у членистоногих одну только беспримесную моторную (биокинетическую) нагрузку.
Эволюция позвоночных разрешила ту же проблему совершенно иначе. Жесткие пассивные звенья, работающие на сжатие и изгиб (кости скелета), расположены и в туловище, и в конечностях аксиально и окружены со всех сторон тканями, работающими на растяжение. В соответствии со свойствами подвижности сочленений те направления, по которым суставная подвижность отсутствует, оснащаются сухожильно-фасциальной тканью, а по направлениям свободной подвижности размещается активная мышечная ткань. В статическом отношении многозвенные кинематические цепи позвоночных построены по типу составных мачт с вантовыми растяжками. Устойчивость таких цепей требует регулировки напряжений в растяжках, т. е. уже не пассивна, не разумеется сама собой как следствие конструкции, как у членистоногих, а нуждается в активном поддерживании. Мышцы позвоночных несут поэтому двоякую функцию (кинетическую и статическую), что налагает особый функциональный отпечаток и на самую мышечную ткань.
Задача освоения неокинетической мускулатуры не могла быть разрешена одними только морфологическими, структурными нововведениями. Наряду с ними потребовались и возникли многообразные и гибкие функциональные приспособления. Они особенно выпукло выявляются у позвоночных в связи с необходимостью обеспечения статики совместно с кинетикой.
И по сию пору остается загадочным, почему эволюция не пошла по пути преобразования самих первичных актомиозиновых сократительных элементов с тем, чтобы сделать их функционально более гибкими и доступными регуляции. Весь ход эволюционного осваивания неокинетической мускулатуры выглядит так, как если бы эти сократительные элементы были внесены в структуру организмов откуда-то извне, с невозможностью переработать и восполнить в чем-либо их ресурсы и как если бы тем не менее создаваемая ими быстрота и мощность были настолько ценными приобретениями, что за них стоило заплатить целым арсеналом морфологических и функциональных приспособлений.
Чередование в мышечном волокне активных и пассивных саркомеров дополнилось чередованием во времени эпизодов активности в отдельных волокнах целой мышцы. Наряду с создаваемой этим путем возможностью дозировки суммарной силы сократительного эффекта инактивные в каждый данный момент волокна смогли вносить свою долю участия в амортизацию рывков. Еще более важно то, что наличие всех этих упруго-вязких амортизаторов создало возможность выхода за рамки краткого как взрыв возбудительного процесса, не поддающегося никакому продлению. Эти амортизаторы совместно с инерционной нагрузкой приводимых в движение звеньев позволили осуществить суррогат длительных напряжений и сокращений мышцы. При достаточной (как известно, не слишком высокой) частоте эффекторной импульсации цепочки синхронных с ними возбудительных разрядов в мышечном волокне, сглаживаясь в силу всех перечисленных причин, смогли превратиться в целой мышце в плавные и длительные тетанусы.
Но, кроме преодоления краткости активного процесса, необходимо было еще преодолеть однообразие его силы. Частично это могло быть достигнуто упомянутой выше дозировкой чередования и рекрутирования мышечных единиц. Оставшуюся задачу эволюция смогла разрешить и более принципиальным путем, о котором необходимо сказать несколько слов.
Неокинетический аппарат впервые принес с собой в физиологический обиход сковывающий принцип «все или ничего». В своем чистом виде он не мог бы обеспечить никакой дозировки силы мышечного эффекта. Но эволюция сумела с поразительным успехом подчинить нервной регуляции и эту остающуюся неподатливость неокинетической мышцы (об этом сказано подробнее в очерках VII и XI). Напомним, что закон «все или ничего» устанавливает независимость силы ответа только от величины надпорогового раздражения, отнюдь не утверждая абсолютной неизменяемости этой силы. И в организмах позвоночных смогли выработаться такие средства регулирующего воздействия на поперечнополосатую мускулатуру, которые, не будучи сами стимуляторами в точном смысле слова и не вызывая в этой мускулатуре кинетической активности, настраивают в ней все физиологические параметры: возбудимость, силу и быстроту ответа, начальную длину и модуль упругости и т. д. в широком и гибко управляемом диапазоне. Эти средства, в своей совокупности обнаруживающие все свойства палеокинетических приборов (к которым, в частности, относятся гладкие мышцы), всего правильнее объединить под названием нервно-мышечного тонуса.
Возвратимся теперь к основной линии изложения. Как справедливо замечает Sherrington, «телерецепторы создали головной мозг», точнее, именно то, что мы выше назвали центральными замыкательными системами (наложив попутно централизующий отпечаток и на спинной мозг, некогда чисто метамерный, в более позднем филогенезе приобретший несомненные черты центрального образования). Но дело в том, что рецепторы и именно телерецепторы в наибольшей мере сами являются вторичными, производными приборами, и здесь необходимо углубить и продолжить ход рассуждений Sherrington.
В процессе эволюции соматической системы (разве лишь за исключением самого последнего отрезка филогенеза) определяющим звеном везде являются эффекторные функции. Судьбу индивидуума в борьбе за существование решают его действия, большая или меньшая степень их адекватности во все осложняющемся процессе приспособления. Рецепторика здесь представляет собой уже подсобную, обслуживающую функцию. Нигде в филогенезе созерцание мира не фигурирует как самоцель, как нечто самодовлеющее. Рецепторные системы либо являются сигнальными (мы уже видели их в этой роли), и тогда любая степень их совершенства не в состоянии сама по себе обеспечить особи биологического преимущества, если дефектен обслуживаемый ими эффекторный аппарат, либо процессуально обеспечивают полноценную, координационную работу эффекторов (в этой роли мы еще увидим их ниже), и здесь подсобный характер их деятельности вытекает из самого существа выполняемой ими задачи. Таким образом, и в сигнальной, и в коррекционной роли рецепторы состоят при эффекторных аппаратах, влияя на биологическую судьбу особи или вида не иначе, как через последние. Центральные замыкательные системы в этом аспекте исторически являются уже подсобными приборами для подсобных.
Мы покажем дальше, каким путем возникновение и развитие как самих телерецепторов, так и еще более важных для координационной функции сенсорных синтезов, опирающихся на центральные замыкательные системы, определяются вырастающими и осложняющимися запросами со стороны эффекторики.
Усложнение возникающих перед организмом двигательных задач и откликающееся на него обогащение координационных ресурсов особи совершаются по двум линиям. С одной стороны, двигательные задачи делаются более сложными в прямом смысле слова. Возрастает разнообразие реакций, требующихся от организма. К самим этим реакциям предъявляются более высокие требования в отношении дифференцированности и точности. Наконец, осложняется смысловая сторона движений, действий и поступков животного. Достаточно напомнить, насколько, например, аэродинамический полет птицы сложнее, чем почти полностью гидростатическое плавание рыбы, или насколько богаче по контингентам участвующих движений охота хищного млекопитающего по сравнению с охотой акулы. Молодая отрасль проворных теплокровных млекопитающих победила тугоподвижных юрских завров именно своей более совершенной моторикой3. С другой стороны, в общем составе встающих перед организмом двигательных задач все возрастает процент задач разовых, непредвиденных, экстемпоральных за счет более древних шаблонных ситуаций. Все многочисленные исследования «пластичности нервной системы» показывают наряду с эволюционным возрастанием приспособляемости немедленность, почти мгновенность ее перестроек при самых фантастических постановках опыта. Но даже если оставить в стороне всевозможные экспериментальные анастомозы и перекресты мышц и нервов, то высказанное положение подтверждается и гораздо более будничным фактором возрастающей по ходу филогенеза способности к накоплению индивидуального опыта, к замыканию новых условных связей, т. е. опять-таки к выходу за рамки родовых стереотипов.
Слегка схематизируя, можно сказать, что первая из двух упомянутых линий развития двигательных координаций обеспечивается и сопровождается преимущественно эволюцией рецепторики, вторая — эволюцией центральных замыкательных систем. Во-первых, по линии рецепторики идет систематическое качественное усовершенствование рецепторных устройств, ведущих свое начало с самого древнего филогенеза: происходит переслоение древней (палеокинетической, см. гл. III) протопатической тактильной чувствительности более новой и тонко работающей эпикритической, реализующейся посредством неокинетического нервного процесса; появление младшей (опять-таки неокинетической) формы проприоцепторики — геометрической, воспринимающей позы и скорости и возглавляемой неолабиринтом полукружных каналов, — на фоне древней проприоцепторики тропизмов, возглавленной отолитовым аппаратом (палеолабиринтом) и приспособленной к оценке давлений, напряжений и усилий, ориентировке в поле тяготения и т. п. Во-вторых, все более развивается и приобретает главенствующее положение система телерецепторов, внесшая в эволюцию центральных замыкательных систем и головного мозга в целом весь тот глубокий качественный переворот, о котором уже говорилось выше и который обусловливался постепенным утверждением примата рецепторов этого класса. Здесь необходимо отметить по крайней мере три важных качественных изменения. Во-первых, совершается переход от однонейронной таламической схемы центростремительного нервного пути к схеме кортикальной афферентации, состоящей из двух или еще более нейронов, а это знаменует собой отнюдь не только появление пары лишних синаптических перерывов на пути сенсорного импульса, а глубокую качественную переработку чувствительных сигналов в промежуточных ганглиозных ядрах. Во-вторых, параллельно с первым наблюдается переход от островной системы нервноклеточных сенсорных ядер к двухмерно развернутой слоистой системе, характерной для коры полушарий. Значение обоих этих переходов для эволюции координационной функции уяснится в дальнейшем. Наконец, в-третьих, видимо, как прямое следствие отмеченных морфологических перестроек, происходит и функциональная эволюция рецепторики по линии формирования все усложняющихся синтетических сенсорных полей, о которых речь будет ниже. Эти сенсорные синтезы, в которых сырые рецепции отдельных органов чувств сливаются вместе с мнестическими компонентами из прежнего индивидуального опыта особи в глубоко переработанные и обобщенные направляющие для координированных движений и действий, в свою очередь стимулируют и направляют рост и развитие центральных замыкательных систем в неменьшей мере, нежели это делают телерецепторы. Филогенетическое формирование этого ряда постепенно усложняющихся полей сопряжено с непрерывным ростом удельного веса мнестической слагающей — иначе говоря, индивидуальной памяти4.
В той же слегка схематизированной интерпретации вторая линия развития эффекторики — линия возрастания удельного веса разовых реакций, опирающихся на накопленный и организуемый особью индивидуальный опыт, связана по преимуществу с эволюцией центральных замыкательных систем, имеющих своим субстратом кору больших полушарий. Развитие последней обеспечивает организму и возможность прогрессивного усложнения смысловой структуры его действий, и увеличение его мнестических средств. Этим путем центральные замыкательные системы на какой-то из ступеней эволюции переходят из подчиненного положения в положение возглавляющих и направляющих дальнейшее развитие всей нервносоматической системы в целом (см. рис. 36).

Рис. 36. Продольные разрезы головного мозга позвоночных животных. Сверху вниз: мозг акулы, ящерицы, кролика и человека. Темной краской изображен «новый мозг», светло-серой — «старый мозг», темно-серой — мозговые желудочки.
Ход филогенетического развития строения центральной нервной системы в отличие от всех прочих органов и систем тела состоит не только (и даже не столько) в количественном разрастании, сколько в качественном обрастании ее новыми образованиями, не имеющими гомологов в предшествующих этапах филогенеза и по большей части представляющими собой надстройки на один (или больше) нейрональный этаж на пути следования нервного процесса. Этот принцип неминуемо приводит к скачкообразности развития центральной нервной системы уже из-за дискретности нейронных цепей: осложнение рефлекторной дуги или вообще любого маршрута нервного импульса внутри центральной нервной системы возможно не иначе, как на целое число новых промежуточных нейронов. Путь, по которому центральная нервная система в своем развитии преодолевает эту скачкообразность, хорошо иллюстрируется примером эволюции зрительного аппарата. У низших позвоночных (амфибий) путь от сетчатки к центру однонейронный, оканчивающийся в ядрах покрышки, которые у них и являются верховным зрительным центром. У птиц и млекопитающих налицо уже двухчленный путь (сетчатка — наружное коленчатое тело — зрительная зона коры полушарий), на который переключились у них главные по смыслу функции зрительного рецептора: восприятие форм, предметов, движений и т. п. При этом, однако, древний сенсорный путь не исчезает и только переключается на осуществление важных подсобных рефлексов (реакции зрачка и т. д.) за счет мезэнцефалических нервных ядер. И в других функциональных системах (сенсорных и эффекторных) можно обнаружить аналогичные процессы «обрастания», в результате которых древний центр обычно модифицируется так, чтобы образовать вместе со вторым более сложный функциональный синтез. Так было, например, с постепенным развитием эффекторных аппаратов мозга. Таким порядком мало-помалу формируется структура из многих совместно работающих нейрональных этажей (рис. 37).

Рис. 37. Схемы постепенного «обрастания» эффекторных систем мозга. Сенсорные ядра изображены округлыми, эффекторные — угловатыми контурами.
A — спинальный уровень: периферические сенсонейрон и мотонейрон с синаптической связью между ними; Б — таламо-паллидарный уровень; ЗБ — зрительный бугор; П — pallidum; М — кора мозжечка; В — появление моторной коры (КП) и пирамидного пути; C — филогенетически новейшее и главенствующее эффекторное ядро striatum экстрапирамидной системы.
Необходимо, впрочем, подчеркнуть, что соответственно чрезвычайно общему биологическому принципу постепенной смены ведущих звеньев, проявления которого мы уже видели в чередовании эффекторики и центральных замыкательных систем в роли ведущих определителей эволюции мозга, и сам нейронный принцип строения нервной системы родился отнюдь не сразу. Нервные системы у praevertebrata не нейронны. И у позвоночных, до высших млекопитающих включительно, вегетативные системы в их постганглионарной части построены гораздо ближе к нейропильной, нежели к нейронной схеме. Наиболее своеобразно, что и сами центральные нервные системы высших позвоночных работают по отношению к одним отправлениям как построенные по нейронному принципу и в то же самое время по отношению к другим классам функций — как самый неоспоримый сплошной, диффузный нейропиль. Не исключена, видимо, возможность того, что первый слой коры полушарий морфологически построен по типу нейропиля. То же представляется более чем вероятным по отношению к ряду кортикальных мелкоклеточных скоплений5.
Многие из упомянутых выше нейрональных надстроек, возникавших в центральной нервной системе по ходу ее эволюционного обрастания, возглавляли в какой-либо из фаз филогенеза всю центральную нервную систему, переслаиваясь в последующей эволюции еще более молодыми и захватывающими верховное положение образованиями. Здесь должно быть упомянуто еще одно осложнение, обусловливающее, в свою очередь, смещение важнейших отправлений центральной нервной системы и изменение их соотношений, качеств и удельных весов, — это отмечаемая всеми исследователями истории мозга начиная с Monakow (1914) и Economo (1927) прогрессивная «энцефализация» функций. Под этим термином подразумеваются два факта или, может быть, две стороны явлений: 1) прогрессирующая утрата самостоятельности и функциональное обеднение каудальных отрезков центральной нервной системы — спинного мозга и 2) постепенное перемещение «центров» тех или других физиологических функций мозга во все более орально расположенные ядра. Этот неуклонно совершающийся процесс может быть прямым образом связан с обрисованной выше сменой ролей и все более выявляющимся приматом головного мозга. Начиная с какого-то эволюционного момента головные ганглии из положения обслуживающих и интегрирующих приборов при телерецепторах превращаются в доминирующий орган, в дальнейшем суверенно направляющий весь ход последующего развития. Примат центральной нервной системы в переживаемом нами периоде эволюции и ее определяющее влияние не только на узко анимальную сферу, но и на вегетатику, трофику, метаболизм, иммунобиологию и т. д. не вызывают сомнений.
Усложнение двигательных задач, неминуемо требующих разрешения со стороны особи, и само по себе совершается отнюдь не плавно и постепенною Наоборот, перемены в образе жизни, зоологическом окружении, экологической обстановке и т. д. приводят к накоплению все больших масс качественно новых координационных проблем с не встречавшимися ранее и не имевшими возможности войти в обиход особыми чертами смысловой структуры, двигательного состава, потребного сенсорного контроля и т. д. В течение какого-то времени животные справляются с этими необычными задачами при помощи своих наличных ресурсов. Однако рано или поздно противоречие между новыми смысловыми и сенсорными качествами нахлынувших задач и неадекватными им координационными средствами животного приводит путем отбора к преобладанию особей, способных справиться с этими новыми качествами, и этим сразу, скачком, получить в свое распоряжение целый новый класс движений, однородных по типу и уровню сложности и сходных между собой по качествам потребного сенсорного контроля. Если бы эволюционное развитие совершалось по Ламарку, в порядке постепенного упражнения рабочих органов, то можно было бы, пожалуй, ожидать каких-либо гипертрофических, количественных, постепенно образующихся приспособительных изменений мозга. Но, осуществляясь по принципу отбора, развитие центральной нервной системы в ответ на новые классы двигательных задач не может протекать иначе, как в виде накапливающегося преобладания индивидуумов с качественно отличным, мутировавшим в каких-то отношениях мозгом. Возникновение в филогенезе очередной новой мозговой надстройки знаменует собой биологический отклик на новое качество или класс двигательных задач. Это обстоятельство означает в то же время появление нового синтетического сенсорного поля, а тем самым и появление возможности реализации нового класса или контингента движений, качественно иначе строящихся и иначе управляемых, нежели те, которые были доступны виду до тех пор.
Мы обозначаем всю перечисленную совокупность морфологических и функциональных сторон, характерных для такого нового класса движений, как очередной уровень построения движений и двигательных координаций.
Сказанное выше о линиях усложнения двигательных задач, возникающих перед организмом, позволяет оценить и те направления, по которым совершалось поочередное развитие возникающих один за другим координационных уровней построения.
Более новые в филогенезе, они же и более высокие, уровни становятся:
1) все более тесно связанными с телерецепторикой и надстроенными над ней обобщающими системами в коре головного мозга;
2) все более экстемпоральными, т. е. пригодными для осуществления разовых координационных решений и пластических переключений;
3) все более синтетичными, т. е. опирающимися на сложные психологически организованные синтетические сенсорные поля;
4) все более богатыми мнестическими элементами, накопленными из индивидуального опыта. В этих же направлениях изменяются и облики тех движений и действий, которые ведутся на соответствующих уровнях.
Каждый новый уровень приносит с собой комплект новых движений, какие раньше были организму недоступны. Следует сразу отвергнуть как неверное старое представление, будто филогенетически более молодые надстройки обеспечивают в основном новые качества координаций и, следовательно, будто каждый из разновозрастных мозговых морфологических этажей равнозначен какой-то одной стороне координационной отделки любого целостного движения. Каждый новый морфологический этаж мозга, каждый очередной функциональный уровень построения содержит и приносит с собой не новые качества движений, а новые полноценные движения. В нервной системе высокоразвитого позвоночного содержащимся в ней N структурным этажам и доступным для нее N уровням соответствует не N групп качеств движения, а N особых списков или контингентов движений, вполне законченных и биологически пригодных для решения определенных, посильных им задач. Было бы очень трудно понять, какой биологический смысл и какое оправдание своего существования могли бы иметь движения-недоноски, лишенные в течение долгих веков филогенетической эволюции какой-либо существенной группы координационных качеств или, наоборот, представляющие собой наборы второстепенных, вспомогательных качеств без самого главного смыслового определителя — фоны без фигуры. В истории развития каждый из уровней построения, констатируемых у человека, был на каком-то этапе наивысшим (разумеется, с известными поправками в отношении эволюции контингентов) и определял собой «потолок» координационных возможностей организма, обрывавший сверху список доступных ему в ту пору движений. Но на каждом подобном этапе эти движения были вполне закруглены и координационно оформлены в меру тех скромных двигательных задач, какие им предстояло разрешать.
Всего ярче подкрепляется это положение о контингентности движений каждого очередного уровня клиническими фактами выпадений движений при четко локализованных очагах или четко системных поражениях в центральной нервной системе. В этих случаях как общий закон (уже подмеченный клинической невропатологией) выпадают не качества всяких движений, а целые списки или классы движений или их фоновых компонент. Что особенно поражает наблюдателя в подобных случаях, — это четкая избирательность выпадений и полная интактность других движений, иногда очень похожих по своему облику на выпавшие, но резко отличающихся от них своей смысловой стороной. Один больной не может поднять руку по приказанию «подними руку», но без затруднения поднимает ее по заданию «сними фуражку». Другой лишен непроизвольной мимики настолько, что производит впечатление страдающего полным парезом всей лицевой мускулатуры, и в то же время легко и точно выполняет любые произвольные движения губ, носа, век, лба и т. д. в порядке намеренного подражания или по словесному заданию. Третий больной (гемиплегик) не способен к произвольным движениям в плечевом суставе парализованной руки, но может, особенно в полусне, полунаркозе или аффекте, совершать те же движения как компоненты синергических непроизвольных актов. Четвертый пациент не может по заданию начертить на бумаге кружок или косой крестик, но без всякого труда изображает на ней буквы «О» и «Х». Пятый не может ступить ни одного шага по гладкому полу, а разметка последнего равноотстоящими поперечными полосками, как по волшебству, возвращает ему все возможности ходьбы и т. д. Таких примеров бесконечно много, и они чрезвычайно разнообразны. В этих случаях часто достаточно умело переключить выпавшее движение на другой, уцелевший уровень, изменив с этой целью формулировку двигательного задания, чтобы разом достигнуть едва ли не полной реституции.
Упомянутый выше принцип морфогенеза центральной нервной системы по типу обрастания приводит к тому, что центральная нервная система высокоразвитого позвоночного, например антропоида или человека, представляет собой своего рода геологический разрез, отображающий в сосуществовании всю историю развития нервных систем начиная от диффузных нейропилей низших беспозвоночных и простейших спинальных рефлекторных дуг первобытных хордовых. Все это воспроизведено в такой высокоорганизованной нервной системе, в ее последовательных наслоениях, этажах и надстройках с не меньшей точностью, чем, например, индивидуальная история дерева в его древесинных кольцах.
На фоне этого факта представляется очень интересным и многозначительным, что координационные контингенты движений человека образуют точно такого же рода симультанную рекапитуляцию всей истории животных движений, начиная от таких движений, как перистальтикоподобные движения кольчатого червя или глотательно-рвотные движения голотурии. Такая рекапитуляция обнаруживает при этом неоспоримые преимущества перед нейроморфологией, поскольку воспроизводит филогенез не в статике и не в символике гистологических обликов нервных ядер, ничего не сообщающих нам о своей функциональной сущности, а в динамике, в самих движениях, доступных точным сравнениям как по своему содержанию и смыслу, так и по оформлению с движениями современных нам представителей всех ступеней филогенетической лестницы. У самого дна глубокой шахты, опускаемой нами в толщу двигательных координаций человека, мы находим древнейшие палеокинетические координации, отошедшие у высших позвоночных в удел вегетативным отправлениям: перистальтические движения кишечника, стрикционно-дилятационные движения в сосудистой системе, сфинктерах желудка, желчного пузыря, прямой кишки и т. д.
Поднимаясь выше, мы встречаемся с первичными, самыми элементарными и по структуре, и по определяющей их афферентации неокинетическими координациями — спинальными рефлексами, подробно изученными школой Sherrington. Еще выше мы вступаем в область движений с более сложной биологической мотивировкой и с афферентацией, синтетически включающей как телерецепции, так и индивидуальные мнестические компоненты, — в область подлинной психофизиологии. Еще более кверху, в еще большей и более невозместимой мере завися от деятельности коры полушарий, залегают самые молодые в филогенезе специфические человеческие координации, мотивы к возникновению которых уже никак нельзя свести к чисто биологической причинности: в первую очередь координации речи, письма и предметных, трудовых действий с их социально-психологической обусловленностью. Каждое из этих последовательных наслоений связано с очередным новым морфологическим субстратом и каждое, как будет показано ниже, не отрицает нижележащих, более древних координационных напластований, но сливается с ними в очень своеобразные и многообразные синтезы.
1 Очерк представляет собой переработанную I главу монографии «О построении движений». Медгиз, 1947.
2 Не упоминаем здесь о физиологии труда, представляющей неоспоримо и монопольно отрасль физиологии человека. Физиология труда (подразумевается в основном физический труд) изучает либо самый процесс труда, т. е. трудовые движения, и тогда это физиология движений, либо, когда она обращается к вегетативным отправлениям, — функции, сами по себе не изменившиеся у человека по сравнению с животными, но лишь поставленные в измененные условия, не встречающиеся у животных. Движения же, как трудовые, так и бесчисленные другие, у человека изменились сами сравнительно с тем, чем располагают животные.
3 Это была в основном победа кортикальной приспособительной моторики над древней экстрапирамидной моторикой стереотипов.
4 Рост направляющего влияния телерецепторики на эволюцию двигательных функций объясняется еще и тем, что ею были вызваны к жизни сложные интегративные двигательные формы (локомоции и т. п.), а последние потребовали применения сенсорных коррекций (очерк IV). Таким образом, движения стали volens-nolens опираться на рецепторику, в то время как у древнейших форм, наоборот, рецепции вытекали из движений (ощупывания у червей и гусениц и пр.).
5 Трудно предвидеть, как разрешится в морфологическом плане спор между нейронистами и антинейронистами. Однако уже сейчас бесспорно, что: а) функционально синапсы являются точками нарушения непрерывности между отдельными возбудимыми элементами и б) нейропильный тип строения существует наряду с нейронным в высокоорганизованных нервных системах, будучи столь же тесно связан с палеобразованиями и отправлениями, сколь нейронный тип связан с неообразованиями.