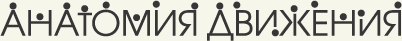ОЧЕРК ОДИННАДЦАТЫЙ
ПУТИ И ЗАДАЧИ ФИЗИОЛОГИИ АКТИВНОСТИ1
Новые точки зрения и по-новому ставящиеся проблемы, связанные с развитием кибернетики, властно захватили и мышление физиологов. Преобладающая часть высказываний по этим вопросам в нашей физиологической периодике выражает стремление установить непрерывную связь положений современной теоретической кибернетики со взглядами и достижениями классиков отечественной физиологии. Это побуждает пристально и вдумчиво смотреть назад. Однако думается, что для непрерывного преемственного развития тех опередивших свое время строго материалистических идей и положений, которые переданы нам в наследство отечественными физиологическими школами И. М. Сеченова, И. П. Павлова, Н. Е. Введенского, А. А. Ухтомского, для дальнейшей разработки их вклада в биологическую науку сейчас значительно более важно вглядываться вперед, пытаться наметить хотя бы в общих чертах те еще далеко не разрешенные задачи, которые вытекают из новых фактов и концепций, и те пути, которые еще требуют осторожного нащупывания, но, по-видимому, смогут привести к открытию новых больших горизонтов. Это еще и потому может оказаться плодотворнее ретроспективных поисков преемственности, что, судя по очень многому, биологические науки испытывают сейчас диалектический скачок развития, требующий смелого разрыва с позициями, уже пережившими свой период ценной прогрессивности, и поиска иных отправных точек, наиболее созвучных с настоящим моментом. К таким новым направлениям исследования представляется правильным отнести изучение физиологии активности.
I. Для классической физиологии прошлого столетия характерны две четко определяющие ее черты. Первая из них — изучение отправлений организма в покоящихся, недеятельных состояниях. Такие состояния, где только возможно, обеспечивались искусственно, путем мозговых перерезок, наркотизации животного, привязывания его к станку и максимальной изоляции его от внешнего мира. Такой аналитический подход к изучению состояний покоя вытекал из стремления исследовать каждый орган и каждый элементарный процесс порознь, исключив какие-либо влияния на них со стороны или друг на друга. Этот подход в общем соответствовал господствовавшему в то время в естествознании стихийному механистическому атомизму. Его абсолютизация вела к убеждению, что целое есть всегда сумма своих частей и ничего более, что организм есть совокупность клеток, а все поведение — цепь рефлексов и что глубокого познания этих отдельных кирпичиков достаточно для постижения здания, построенного из них.
Вторая характерная черта заключалась в положении, что организм находится в непрерывно-равновесном состоянии с окружающей его средой и что такое стойкое равновесие обеспечивается адекватными, правильно отлаженными реакциями на каждое очередное воздействие среды. Все бытие и поведение организма есть непрекращающаяся цепь реакций по схеме раздражение — ответ (сейчас сказали бы «вход-выход»). Знаменем классической материалистической физиологии стала оборванная в начале и на конце рефлекторная дуга, центральной задачей — анализ закономерностей реакций как строго детерминированных входно-выходных взаимоотношений.
Общие технико-экономические условия после первой мировой войны заострили внимание к рабочим состояниям организма. Возникли новые прикладные ветви: физиология труда и физических упражнений, психотехника, биомеханика. Естественно, стал пробуждаться интерес к движениям (здесь и далее всюду под этим словом будут подразумеваться целенаправленные двигательные акты, а не малозначительные обрывки движений вроде болевого отдергивания лапы или коленного рефлекса). Если в рамках старой физиологии покоя и равновесия этому разделу не уделялось достаточного внимания и места, то теперь стала уясняться его первостепенная важность. В самом деле, движения — это почти единственная форма жизнедеятельности, путем которой организм не просто взаимодействует со средой, но активно воздействует на нее, изменяя или стремясь изменить ее в потребном ему отношении. Еще И. М. Сеченов 100 лет назад указал на эту всеобщую значимость движений в своих замечательных «Рефлексах головного мозга». Если добавить, что за прошедшее с тех пор время уяснилось неотъемлемое участие движений во всех актах чувственного восприятия, в воспитании органов чувств в период раннего детства, наконец, в активной выработке объективно верного отражения мира в мозгу путем выверки синтеза восприятий через практику, то легко понять смещение центра тяжести интересов, которое все более стало ощущаться в современной физиологии.
Непрерывающийся рост сложности и мощности технических агрегатов выявил с полной очевидностью, что задачи регулирования и управления этими мощностями образуют самостоятельную область изучения, которая не менее сложна, важна и содержательна, чем сама энергетика, подлежащая управлению. Проблема «всадника» стала преобладать над проблемой «коня».
Аналогично этому и физиология, начав с изучения энергетики рабочих состояний организма (газообмен, отправления подсобных систем, непосредственно не принимающих участия во внешней работе, — дыхание, кровообращение, потение и т. п.), постепенно стала концентрировать внимание на гораздо более содержательных вопросах регуляции и центрального управления активностью живых организмов.
II. Для дальнейшего изложения необходимо вкратце остановиться на некоторых принципиально важных чертах управления двигательными актами как животных, так и человека, уже установленных с полной объективной достоверностью. Первая из них состоит в том, что зависимость между результатом (например, движением конечности или ее звена) и теми командами, которые подаются в ее мышцы по эффекторным нервам из мозга, очень сложна и неоднозначна2. Неоднозначность проистекает прежде всего оттого, что мышцы — это эластические жгуты (попробуйте мысленно заменить паровозный шатун резинкой или спиральной пружиной), эффект действия которых на орган движения существенно зависит от того, в какой позе и на какой скорости этот орган застигнут начавшейся активностью мышцы. Она обусловливается, далее, тем, что между шарнирно соединенными звеньями руки, ноги, туловища, как и в любом физическом многозвенном маятнике, при каждом движении возникают сложные и запутанные непроизвольные силы отдачи (реактивные силы). Наконец, эта неоднозначность является следствием того, что движения, имеющие какой-то реальный смысл, в преобладающем большинстве преодолевают какие-то внешние силы (тяжести, трения, сопротивления противника), уже полностью неподвластные действующей особи и не предусмотримые для нее. Очевидно, организм, для которого единственным каналом воздействия на внешний мир являются все-таки, только команды, подаваемые мышцам, может сделать свои движения управляемыми и отвечающими поставленной задаче только путем непрерывного слежения и контроля за их протеканием через посредство датчиков — органов чувств. Хорошо известная не только физиологам великолепная и разнообразная оснащенность организма сигнальными приборами, находящимися и в самих мышцах, и в суставах, и в главной наблюдательной вышке тела — голове с дальнодействующими органами зрения, слуха, обоняния, обеспечивает безукоризненное и непрерывное кольцевое управление и выверку (корригирование) движений даже таких многозвенно-подвижных цепей, как наши конечности с их мягкими движителями-мышцами3.
Вторая черта, которая не могла не остановить на себе внимание, особенно в навыковых, хорошо отработанных движениях, — это их огромная внутренняя связность. Глубоко ошибаются те, кто рассматривает навыковые движения как какие-то кинематические стереотипы: начать с того, что устойчивость, стандартность формы вырабатываются мозгом выборочно только для тех видов навыков, для каких это реально необходимо (например, бег, спортивный прыжок и т. п.). А найдите-ка подобный стандарт в высочайше организованных навыках таких движений более высокого смыслового порядка, как рукодельные движения искусниц-кружевниц или часовых сборщиц, движения виртуозов смычка и клавиатуры и т. п.! Приспособительная изменчивость навыков движений неуклонно растет с возрастанием смысловой сложности действий, проявляясь сильнее всего в цепных навыковых действиях над предметами (справедливая житейская поговорка «не мытьем, так катаньем»). Но даже и в самых стандартных, с младенчества освоенных актах, как ходьба, достаточно было от приглядки перейти к применению точной аппаратуры, чтобы обнаружить, что ни один шаг не идентичен другому даже на гладком месте, не говоря уже о ходьбе по неровной дороге.
Внутренняя цельность и связность проявляются на фоне этой приспособительной изменчивости в более тонких, бесспорных, хотя и далеких от полной объясненности фактах. Не только изменение, внесенное в движение одного звена, сейчас же сказывается на изменениях во всех остальных (это понять было бы еще проще всего), но также изменение в какой-нибудь одной фазе движения (например, в начале цикла) непременно влечет за собой определенные изменения в какой-либо другой фазе, не обязательно непрерывно следующей за первой. Ряд циклических движений, как ходьба, бег, опиловка, летные движения крыла птицы или насекомого, с хорошим приближением целиком выражаются несложными кинематическими уравнениями, что опять-таки говорит об их целостной связности от начала до конца цикла. Может быть всего выразительнее тот широко известный факт, что навыковые движения типа работы молотком, бега, всякого рода легкоатлетических упражнений выполнимы далеко не «как угодно», а отливаются в небольшое число дискретных форм без переходов между ними, называемые в спорте стилями, в трудовых навыках — приемами. Итак, движения — не цепочки рефлексоподобных элементов, которые можно набирать как вздумается, наподобие типографских литер. Это целостно организованные структуры, постепенное развитие и становление которых, часто очень длительное и нелегкое, нам удалось подробно изучить на некоторых видах движений.
Третья важнейшая черта еще очень далека от ясности. Для ее первоначальной характеристики здесь потребуется наиболее вдумчивый анализ. Зато именно эта черта подведет нас прямым путем к мосту от физиологии реакций, долгое время монопольно владевшей вниманием психофизиологов, к физиологии активности.
III. Что является стандартным, устойчивым определителем той глубоко связной структуры двигательного акта, о которой шла речь сейчас? Таким стандартом-определителем не могут служить эффекторные команды. Выступая не иначе как в трио с двумя видами неподвластных сил (реактивными и внешними силами) и действуя на орган через нежесткую мускулатуру, они должны в широких пределах изменчиво припасовываться к контрольным сигналам, поступающим с органов чувств. Не могут им быть и эти афферентные (входящие) сигналы, потому что сигналы рассогласования столь же изменчивы, как и вызвавшие их причины, а главное, потому, что содержанием вносимой ими информации является «то, что есть», а отнюдь на «то, что надо сделать». Непригодны, наконец, для роли стандартов-определителей и те внутренние, еще не разгаданные мозговые механизмы перекодирования или перешифровки, которые преобразуют прибывающие к ним сигналы о ходе движения и о возникающих рассогласованиях в требующиеся команды нужным мышцам в нужный момент, поскольку они по необходимости так же гибки и нестандартны, как и те коды, которые им приходится перерабатывать.
Весь наш долгий опыт изучения двигательных форм, навыков, клинических расстройств показал с полной ясностью, что единственным стандартом-определителем и для программы двигательного действия, и для ее выполнения, и для корригирования по обратным связям может являться только оформившаяся и отображенная каким-то образом в мозгу двигательная задача. Анализу этого понятия и всего широко связанного с ним круга зависимостей и фактов и будет, по сути дела, посвящено все дальнейшее изложение этого очерка.
Если для начала не побояться простой житейской терминологии, то последовательность в возникновении и реализации любого действия из класса так называемых произвольных движений можно представить в виде следующих этапов: 1) воспринята и в нужной мере расценена ситуация, т. е. обстановка и сам индивид, включенный в нее; 2) индивид определяет, во что нужно ему превратить эту ситуацию, что посредством его активности должно стать вместо того, что есть. Это уже выявившаяся двигательная задача. Нетрудно убедиться, что она содержит в себе больше информационного материала, нежели воспринятая ситуация; по крайней мере частично не содержится в последней. Стая животных или группа людей может быть застигнута общей для них всех ситуацией, однако двигательное поведение будет различным у каждого из них, чему легко подобрать примеры.
Затем определяется для индивида: 3) вот что надо сделать, 4) вот как, с помощью каких наличных двигательных ресурсов надо это сделать. Эти два микроэтапа представляют собой уже программирование решения определившейся задачи. За ним последует фактический процесс ее двигательного решения.
Вряд ли нужно специально подчеркивать, что и контрольная оценка последовательных моментов активного действия, и изменчивость самой ситуации, и грубоватая приблизительность, с какой, вообще говоря, только и можно спрограммировать немгновенное действие, — все это обусловливает приспособительную изменчивость программы и действия по ходу осуществления последнего, от мелких коррективов и до крутой смены стратегий.
Было бы ошибочным думать, что перечисленные микроэтапы перехода от ситуации к действию присущи только активности высокоорганизованных нервных систем. Те же этапы также имеют место и в таких примитивнейших действиях, как, например, охота хищной рыбы за живой добычей. Здесь налицо и ситуация, воспринимаемая в нужной форме и мере, и двигательная задача, и программа ее решения. Как именно кодируется то и другое в нервных приборах хищной рыбы или летучей мыши, нам совершенно неизвестно, но бесспорно, что для их действенности не нужны ни сознательность, ни особенно высокая нервная организация.
К сказанному выше о большем количестве информационного содержания в задаче по сравнению с наличной ситуацией надо добавить следующее.
С точки зрения зависимости реакции организма от вызвавшего ее раздражения или входного стимула построим мысленно ряд, в который расположим все действия (ограничившись здесь для ясности человеком) по признаку значимости для них такого пускового стимула. На одном из флангов этого ряда окажутся движения, полностью обусловливаемые пусковым стимулом — сигналом. Здесь мы найдем все так называемые безусловные, или врожденные, рефлексы. Здесь же окажутся и все выработанные прижизненно, но столь же полно зависящие от пускового сигнала реакции из обширного класса условных рефлексов как человека, так и животного.
Дальше в обсуждаемом ряду разместятся движения, для которых стимул или сигнал продолжает играть пусковую роль, но смысловое содержание которых во все возрастающей мере находится вне зависимости от него. Для двигательных актов этого класса пусковой сигнал все больше начинает приобретать черты «спускового сигнала», аналогично действию нажима на кнопку, включающего всю автоматику запуска ракеты, или сигналу «гоп!» или «марш!», за которым следует действие с программой, в очень малой мере связанной по значению с этим междометием. Наконец, на противоположном фланге мы встретимся с действиями, для которых пусковой или спусковой сигнал вообще не играет решающей роли и может вовсе отсутствовать. Эти-то действия, для которых не только программа, но и инициатива начала целиком определяются изнутри индивида, в наиболее точном определении и являются тем, что принято называть произвольными действиями. Нетрудно увидеть, что перемещение вдоль нашего ряда совпадает с постепенным переходом от пассивных актов к проявлениям все возрастающей степени активности4.
IV. Теперь посмотрим, что можно сказать в настоящий момент об обязательной предпосылке всякого акта превращения воспринятой ситуации в двигательную задачу: о феномене, который на житейском языке заслуживал бы названия «заглядывания вперед», а в более научном обозначении — экстраполяции будущего. Действительно, наметить двигательную задачу (независимо от того, как она закодирована в нервной системе) — это необходимо означает создать в какой-то форме образ того, чего еще нет, но что должно быть. Подобно тому как мозг формирует отражение реального внешнего мира — фактической ситуации настоящего момента и пережитых, запечатленных памятью ситуаций прошедшего времени, он должен обладать в какой-то форме способностью «отражать» (т. е., по сути дела, конструировать) и не ставшую еще действительностью ситуацию непосредственно предстоящего, которую его биологические потребности побуждают его реализовать. Только такой уяснившийся образ потребного будущего и может послужить основанием для оформления задачи и программирования ее решения. Несомненно, что такое отображение предстоящего обладает глубокими качественными отличиями от отображения прошедше-настоящей реальности, но, как покажет последующий разбор, возможность его существования в каких-то кодовых формах (вовсе не требующих субъективной сознательности) в мозгу как человека, так и животных не заключает в себе чего-либо порочного методологически.
В ряде случаев, удобных в качестве вводной иллюстрации, а возможно, также и для экспериментального исследования, «заглядывание в предстоящее», в котором идет речь, доступно и для самонаблюдения, и для хронометрических измерений. Это прежде всего те случаи, когда программа выполняемой двигательной задачи оформлена в виде материального кода, воспринимаемого органами чувств. Музыкант, играющий с листа, каждый из нас при чтении вслух текста обязательно опережает взором на каком-то временном отрезке ноты или слоги, которые фактически звучат в данный момент, т. е. все время имеет в своем мозгу звуковой и психомоторный образ того, что еще предстоит двигательно реализовать через секунды или доли секунд. Выразителен опыт, легко производимый над самим собой. Попробуйте не спеша продекламировать про себя (так, как читают «про себя») какое-нибудь хорошо знакомое вам стихотворение.
Мысленно прислушиваясь при этом к себе, вы ясно заметите, что перед внутренним слухом у вас одновременно проходят два текста: один течет в декламационном темпе, сопровождаясь иногда движениями губ. Вместе с тем на втором плане, опережая его, бежит другой текст, как если бы вам подсказывал стих за стихом какой-то внутренний суфлер. Нет сомнения, что психофизиологи сумеют предложить много более удачных и продуктивных форм опытов и наблюдений над этим феноменом.
Одна очень своеобразная группа явлений, наблюдавшихся на раз, показывает, что обсуждаемое здесь отображение предстоящего, не ограничиваясь только влиянием на ход программирования действий, может в известных случаях обладать огромной физиологической деятельностью, как если бы в самом деле предощущаемое в будущем уже действительно существовало в настоящем. Я имею в виду источники аффекта страха — переживания, которое только и может возникать на основе яркого отображения в мозгу надвигающегося предстоящего. В старой и современной научной литературе имеется ряд описаний смерти от страха, настолько сильным может оказаться вегетативный шок, вызываемый таким кодовым отображением. В художественной литературе мы встречаемся с ним у Гоголя и Эдгара По5.
Чтобы приблизиться к исследованию тех принципов и форм, по которым может быть закодировано в мозгу «отображение будущего» в самом широком смысле этого понятия (область нервных процессов, служащих основным, ведущим компасом организма во всех проявлениях его активности) и его существенных отличий от отображения прошлого-настоящего, придется начать с небольшого теоретического отступления.
Пусть все элементы некоторого множества E (любого числа измерений) соотнесены по определенному закону с элементами другого множества I так, чтобы с каждым элементом второго множества были приведены в соответствие один или несколько элементов первого, и наоборот. Множество E мы будем в указанном случае обозначать как множество — первообраз, множество I — как его отображение, принцип или правило соотнесения — как закон отображения или проекции E на I. Элементы множества первообраза могут (все или частью) являться функциями времени. Тем самым, очевидно, окажутся функциями времени и элементы множества I, а с ними и все множество I как целое. Функцией времени может быть и самый закон отображения. В таком случае отображение I будет двоякоизменчивым во времени как от той, так и от другой причины. Наглядным физическим примером сказанного может служить оптическое изображение на сетчатке глаза у человека, смотрящего на уличное движение из автомашины. Непрерывные изменения этого изображения будут обусловливаться собственными движениями видимых объектов и изменением закона оптической проекции на сетчатку глаза за счет собственного движения последнего.
Тому, кто специально не знаком с математикой, трудно представить себе, как велико многообразие мыслимых законов отображения, среди которых мы могли бы пытаться искать истинный закон или законы формирования отображения реального внешнего мира в мозгу. Между тем вызванное незнакомством с теорией вопроса наивно-реалистическое обеднение гигантского класса таких законов уже неоднократно приводило физиологов и клиницистов к ошибочным концепциям, иногда безобидным, а иной раз уводившим далеко в сторону от правильного понимания сущности вопроса.
Характерный пример уже изжитого недоразумения представляет вопрос о том, как обеспечивается прямое видение внешних предметов, несмотря на опрокинутость их изображения на сетчатке глаза. Почему, в самом деле, мы, невзирая на опрокинутость этого изображения, видим реальные предметы не «вверх ногами»? Почему слепорожденные, получив зрение путем снятия катаракт во взрослом возрасте, вынуждены вначале «учиться видеть», то, что в первые часы и дни представляется им непонятным хаосом цветовых пятен, но ни в одной фазе этого обучения не «видят» предметов перевернутыми и не имеют необходимости переучиваться чему-либо в этом смысле? Одни психологи (довундтовского периода) ярко, другие завуалированно делали презумпцию о некоем внутримозговом «зрителе», которому предъявляется в зрительной зоне мозга поэлементный дубляж глазной сетчатки и который, чтобы видеть предметы правильно, обитает в мозгу «вниз головой» (что могла бы здесь представлять собой «голова»?). Другие считали более подходящим предположение, что жгут зрительного нерва перекручен на своем пути на 180° и отображает в зрительной мозговой коре сетчатку, поставленную как надо, с головы на ноги, после чего внутримозговому зрителю уже можно пребывать в более или менее естественной позе. Авторы всех подобных гипотез не замечали, что главная, важнейшая ошибка их взглядов вовсе не связана с вопросом о размещении поэлементного отображения сетчатки в элементах зрительной зоны мозга. Ошибка (как это теперь очевидно для нас) состояла в постулировании раздельного существования в мозгу «зримого» и «зрителя». Первое зачем-то дублировало элемент за элементом наличествующую на сетчатке оптическую проекцию; второй каким-то образом воспринимал, «видел» этот дубляж, вроде того как сам субъект видит окружающий мир. Немного оставалось до того, чтобы постулировать у этого внутреннего зрителя свою «зрительную зону».
Ошибка описанного частного случая уже преодолена к нашему времени, и обрисовать ее стоило только ввиду ее поучительности. Другая важная ошибка, которую следует обсудить, живуча еще и теперь.
V. Генезис общей идеи о поэлементном дубляже в клетках мозговой коры всех полей органов чувств — зрения, слуха, осязания, мышечно-суставной (проприоцептивной) чувствительности — нетрудно проследить. Огромный материал, накопленный экспериментальной физиологией и клиникой мозга начиная с 1870 г. (даты первого открытия в этой области), показал с несомненностью, что не только каждой категории чувствительности соответствует в коре мозга своя обособленная зона, но что в пределах этих зон имеется и нечто вроде поточечного соответствия с элементами периферической территории данного вида чувствительности, для одних зон менее, для других более четкого и дифференцированного. Особенно выразительно детализированными среди этих проекционных зон коры мозга оказались расположенные рядом зоны осязания и проприоцепторики, на которые действительно удалось нанести своего рода картографические проекции (правильные, однако, лишь в самых общих чертах) чувствительных поверхностей всего тела.
Текущая переменчивость изменяющихся от момента к моменту информаций, поступающих от органов чувств в упомянутые первично проекционные зоны мозга, заставила по необходимости постулировать существование бок о бок с ними вторичных зон, осуществляющих функции длительного хранения (памяти) впечатлений, передаваемых им первичными зонами, но обладающих такими же, как и те, точечно-проекционными свойствами.
Чтобы подойти теперь к анализу той присущей постулатам атомизма ошибки, которая, видимо, немало зависела от недостаточной осведомленности в области теории отображений и о которой было упомянуто выше, сделаем отступление.
Нетрудно показать с помощью двух-трех простейших наглядных примеров, что могут существовать пары множеств, которые, вне всякого сомнения, целиком проецируемы одно на другое и каждое из которых легко и очевидно расчленимо на составляющие элементы, но для которых поэлементное соотнесение по типу упоминавшихся выше проекций «E на I» приводит к явному абсурду.
Исполнительный чертеж машины содержит 1000 штрихов. Чтобы сделать эту машину, мастер должен выполнить 1000 операций. Значит ли это, что выполнение каждого штриха требовало отдельной операции?
Я сделал доклад, состоявший из 1000 слов. Мой оппонент полностью опроверг меня речью также из 1000 слов. Следует ли отсюда, что каждое из слов, произнесенных им, опровергало одно из слов моего доклада?
1000 человек прочли книгу в 1000 страниц. Можно ли понимать это так, что первый читатель прочел первую страницу, второй — вторую, сотый — сотую?
Reductio ad absurdum часто является очень полезным приемом для обнаружения ошибочного хода мыслей. Вооружась приведенными примерами, обратимся к разбору основных положений теории вторичных полей, после чего можно будет попытаться подойти к теоретическому обобщению сказанного.
Что мы видим, осязаем, воспринимаем любым из наших органов чувств? Вещи, предметы. Что является элементами множества окружающего нас мира? Предметы. Что должно явиться элементами для мозговой проекции типа «E на I» в соответствующих корковых системах и их клеточках? Ясно, что предметы же, которые фигурируют здесь и как раздельные отображаемые мозгом элементы внешнего мира и как стимулы, — сигналы реакций на него. Для них всех и постулируется поэлементная «сигнальная» система мозга, где по клеткам (в своего рода «клеткотеке») размещены все переданные к ним из первичных проекционных зон восприятия — образы конкретных вещей.
Если порочность подобной трактовки внутримозгового отражения еще недостаточно выпукло явствует из сказанного до сих пор, то последуем тем же путем дальше.
Областью мозговой деятельности, монопольно доступной только человеку, является членораздельная речь. Как же отображена и системно представлена речь в мозгу человека? Коллекция поэлементных отображений у нас уже есть в виде первой сигнальной системы. Но слова — названия предметов, поэтому достаточно произвести еще одну поэлементную проекцию, исходя из этой сигнальной системы, и мы получим вторую сигнальную систему, так сказать, проекцию проекции, в которой каждому предметному сигнальному образу — элементу первой системы будет соответствовать его название во второй. Видимо, атомизм есть нечто очень цепко врастающее в мышление, если до сего времени существуют такие толкования второй сигнальной системы, согласно которым речь, орудие мышления неисчерпаемой мощности, низводится до уровня назывательного словника конкретных предметов в именительном падеже единственного числа.
Ни рамки, ни задачи настоящего очерка не позволяют подробнее задерживаться на затронутой теме. Ограничимся поэтому двумя-тремя вопросами: 1) сигналами чего именно во второй сигнальной системе являются такие элементы ее состава, как «опять», «двумя», «без», «ведь», «или»? 2) как и где поэлементная второсигнальная система-проекция размещает в своем составе такие сигнальные слова, так «ты мыслишь, он не мыслил, мы помыслим, вы мыслили бы, они не будут мыслить» и т. д.? 3) о таких словах-сигналах, как «волновая функция», «кватернион», «антимония», «трансфинит», может быть, лучше и не говорить6?
К такой же категории ошибочных соотнесений двух бесспорно расчленимых на элементы и бесспорно же соотносимых одно с другим множеств относится и бытовавшая на стыке психиатрии и нейрохирургии ныне разоблаченная как ошибка и отвергнутая теория «психоморфологизма», которая классифицировала и подразделяла элементарные психические функции и симптомы их нарушений, соотнося их затем с различными определенными мозговыми локализациями. И здесь, очевидно, аберрация сводилась к той ошибке, которую в соответствии с первым из приводившихся примеров — абсурдов можно было бы назвать «ошибкой машины и чертежа».
VI. Теперь своевременно перейти от иллюстраций к обобщениям. Представим себе, что в множестве E среди его элементов имеются связи, тем или иным образом объединяющие эти элементы в подмножества по определенным законам, или даже, что мы сами наложили на множество такие упорядочивающие связи, расчленяющие его на семейства подсистем элементов. Простейшим примером такой операции может служить нанесение на плоскость или на шаровую поверхность системы координат. Можно указать немало примеров и таких множеств, в которых подобного рода расчленение не наложено извне, а присуще множеству самому по себе и нуждается только в том, чтобы быть подмеченным и сформулированным.
Пусть теперь с элементами некоторого множества M соотнесены не отдельные элементы E (как было в случае поэлементной проекции «E на I»), а целые подмножества его элементов — представителей его системного расчленения. В случаях этого рода мы будем называть множество M моделью множества E а самый принцип данного расчленения и соотнесения — оператором моделирования.
Нет нужды подчеркивать, насколько разнообразными могут быть формы и принципы моделирования. В одних случаях каждой функции из семейства, заполняющего множество — первообраз E, соответствует в M определенное число (так называемый функционал). В других случаях оператор моделирования обусловливает упорядочивание или группировку функций первообраза в последовательности (континуальные или дискретные) так, что каждой такой последовательности отвечает в M своего рода «функция функций». Сами формы выборки функций — представителей первообраза могут обладать очень большим качественным разнообразием. Отображения в модели могут исчерпывающе охватывать все непрерывное множество системных функций, покрывающих первообраз, или воспроизводить только дискретно выборочные из их числа (например, с целочисленными значениями параметров и т. п.), или соотносить с каждым элементом либо констелляцией элементов модели дискретные функции оси первообраза E, охваченные вероятностно определяемыми полосами территории вдоль них, и т. д. Сейчас важно сформулировать несколько основных положений, базирующихся на всем сказанном и относящихся прямым образом к нашей теме.
Охарактеризовав расширенные рамки принципа отображений, мы можем с достаточной уверенностью утверждать, что мозговое отражение (или отражения) мира строится по типу моделей. Мозг не запечатлевает поэлементно и пассивно вещественный инвентарь внешнего мира и не применяет тех примитивных способов разделения этого мира на элементы, какие первыми придут в голову (фразы — на слова, чертежа — на черточки), но налагает на него те операторы, которые моделируют этот мир, отливая модель в последовательно уточняемые и углубляемые формы. Этот процесс, или акт мозгового моделирования мира, при всех условиях реализуется активно. Действительно, если принцип расчленения, систематизации и образования систем подмножеств налагается на первообраз самим мозгом, то этот процесс сформулирования и применения оператора моделирования активен по самому существу. Если же закономерности внутреннего членения множества Е присущи ему самому, то обнаружить их, признать их значение и применить в качестве операторного принципа все равно можно только путем активного прощупывания и исследования.
Более чем вероятно, что в теснейшей связи с прежней трактовкой организма как системы, пассивно подвергающейся непрестанному воздействию стимулов, на которые она закономерно отвечает реакциями, стоит и тезис о перманентно-равновесном состоянии организма со средой, в которую он погружен. Между тем этот тезис ошибочен и глубоко механистичен. Ни одна из систем, живых или мертвых, подчиненных второму закону термодинамики, не могла бы ни двигаться, ни изменяться и еще менее приспособительно изменяться (в чем и состоит весь жизненный процесс живых систем), если бы не перманентное нарушение равновесия, которое живая система организма непрерывно стремится активно минимизировать, никогда, однако, пожизненно не достигая обращения этого нарушения в нуль. Равновесие для живой системы равнозначно смерти.
Существенное отличие живых систем от системы неживой природы в том, что в первых при неукоснительном подчинении второму закону по общему итогу всех термодинамических процессов в организме имеет место его преодолевание в смысле увеличения негэнтропии во всех проявлениях активного поведения и структурирования, к чему мы вернемся ниже. Живые системы непрерывно сами создают условия нарушенного равновесия, связывая в нераздельном единстве внесение или углубление нарушений равновесия с окружающим миром и борьбу за их минимизацию.
К общей характеристике свойств активного операторного моделирования мира мозгом надо добавить еще несколько положений.
Накладывая на первообраз E ту или иную систематизирующую закономерность или формулируя закономерность, подмеченную в самом первообразе, мозг этим вносит в него от себя какое-то количество добавочной информации, но зато получает этой ценой резко сэкономленную количественно, но обогащенную смысловым содержанием информацию об этом первообразе. Образно можно было бы сравнить привносимую изнутри вспомогательную информацию с ферментом, небольшие количества которого, выделенные организмом, создают оптимальные условия для усвоения значительно большего количества питательного продукта.
Попутно делается ясной принципиальная порочность позиции, согласно которой постулировался внутримозговой дубляж чувственных периферий (сетчатка, кожа и т. д.), чтобы быть предъявленным со всей первичной обстоятельностью мозговому «зрителю», уже упоминавшемуся выше. Подобный дуализм «зрителя» и «зримого», из-за которого, собственно, только и требовался этот детальный дубляж, становится излишним и ненужным с позиций активного операторного моделирования. Модель не созерцается извне чем-то противопоставляемым ей самой, а создается слитное, неразделимое единство процессов и механизмов перерабатывания впитываемой информации с создающейся из них моделью, все время изменяющейся, не теряющей сходства и единства с собой и направляющей поток активного поведения организма.
Уже упоминавшееся в качестве базиса для каждой двигательной задачи «заглядывание в будущее», или, как теперь уже можно сказать, модель будущего, заставляет признать, что в мозгу сосуществуют в своего рода единстве противоположностей две категории (или формы) моделирования воспринимаемого мира: модель прошедше-настоящего, или ставшего, и модель предстоящего. Вторая непрерывным потоком перетекает и преобразуется в первую. Они необходимо отличны одна от другой прежде всего тем, что первая модель однозначна и категорична, тогда как вторая может опираться только на экстраполирование с той или иной мерой вероятности.
В качестве небезынтересного сопоставления стоит отметить, что мозговые корковые системы, наиболее тесно связанные с восприятиями (так сказать, входные системы), занимают собой задние половины полушарий, где размещены первичные поля зрения, слуха и осязания и где повреждениям или утратам мозгового вещества всегда сопутствуют нарушения элементарных или обобщающих процессов восприятия. Корковые системы, столь же тесно связанные с выполнением движений, их инициативой, программированием, стратегией и т. д. (выходные системы), заполняют собой передние половины полушарий. Это создает и любопытную аналогию с патриархом нервной системы — спинным мозгом, где налицо такое же относительное расположение входных (задних) и выходных (передних) нервных корешков. Хорошо известно, что выпадение какой-либо функции вслед за утратой того или другого участка мозга означает отнюдь не то, что выпавшая функция была локализована в утраченном участке, а только то, что его наличие и его проходимость были существенно необходимы для беспрепятственного протекания данной формы нервного процесса: выход из строя передаточной шестеренки часов останавливает часы, но функция часов отнюдь не «локализована» в сломавшейся шестеренке. Не строя поэтому неправомерной гипотезы о раздельной мозговой локализации моделей ставшего и будущего, мы, однако, вправе представлять себе динамику мозгового нервного процесса как два встречных потока, наиболее тесно связанных, один — с субстратом задних половин полушарий, другой — с субстратом передних. Анализ биоэлектрических явлений мозга, углубленный и опирающийся на новые концепции, сможет, вероятно, прояснить очень многое в этом направлении.
Вопросы, относящиеся к модели ставшего, выходят за рамки настоящего очерка. К тому же по этой линии уже многое расследовано психофизиологами. Ограничимся только одним примером, который сможет попутно показать, какую огромную практическую важность может подчас иметь выяснение структуры оператора и операторной модели объектов воспринимаемого мира. Дело касается процессов восприятия конфигураций.
Зрительный образ круга имеет пять степеней свободы (или пятимерный континуум) многообразия оптических проекций его на сетчатку глаза. Не переставая быть треугольником, соответствующая этой фигуре оптическая проекция имеет шесть степеней, проекция буквы «Н» — 12 степеней свободы, другие письменные знаки — иногда еще большие количества. Это не препятствует, однако, тому, чтобы мозговой операторный процесс (пока совершенно неизвестной нам структуры) соотносил в каждом из подобных примеров все гигантское многообразие их оптических изображений и (предполагаемых) поточечных проекций к единому смысловому коду фигуры. Не может быть сомнения, что будущая, действительно работоспособная машинная модель для опознания букв независимо от размера и рисунка шрифта будет работать не путем пассивного и неосмысленного сканирования, как описывавшиеся доселе опытные образцы, а только по принципам мозгового операторного моделирования, когда они будут для этого случая познаны.
VII. Та замечательная форма мозгового моделирования, которая только вслед за подъемом интереса к физиологии активности и смогла попасть в поле зрения исследователей, — моделирование будущего, к которому мы теперь переходим, возможна, разумеется, только путем экстраполирования того, что выбирается мозгом из информации о текущей ситуации, из «свежих следов» (уже обрисованных мною выше, в очерке 8) непосредственно предшествовавших восприятий, из всего прежнего опыта индивида, наконец, из тех активных проб и прощупываний, которые относятся к классу действий, до сих пор чрезвычайно суммарно обозначаемых как «ориентировочные реакции» и, несомненно, резко недооцененных в отношении их фундаментальной значимости.
Сам по себе комплекс нервных процессов, образующий модель будущего, еще настолько неясен и загадочен, что сказать о нем можно немногое. Кроме бесспорного положения, что этот комплекс существует и играет важнейшую, направляющую роль в том активном воздействии на окружающий мир, которое упоминалось выше, нужно отметить следующее.
В резком отличии от модели ставшего модель будущего может иметь только вероятностный характер. Антиципация, или предвосхищение, того возможного исхода либо исходов, к которым движется текущая ситуация, возможна только путем экстраполирования, которое, вообще говоря, никогда не может привести к категорическому результату. В любой фазе этого процесса мозг в состоянии лишь наметить для предстоящего момента своего рода таблицу вероятностей возможных исходов (табл. 1).
Таблица 1
| Исходы | A | B | C... | M... | X | Y |
| Вероятности | Pa | Pb | Pc... | Pm... | Px | Py |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ } p 1 | |
| Двигательная задача | 0 | 0 | 0... | 1... | 0 | 0 |
Вряд ли нужна особая оговорка, что в интересах анализа мы прибегаем здесь к очень большой схематизации.
В то же время двигательная задача, которую определяет для себя индивид, формулирует с категоричностью единственный исход из текущей ситуации, какова бы ни была его априорная вероятность в таблице самой по себе (хотя бы она там равнялась нулю). Таким образом, активность, направляемая противопоставлением вероятностной модели будущего и определившейся задачи, представляет собой динамику борьбы индивида за превращение вероятности Pm нужного ему исхода в единицу или совершившийся факт с аннулированием всех остальных табличных вероятностей. Очевидно, что эта борьба ведет к понижению энтропии системы, включающей в себя индивида и его непосредственное окружение, т. е. представляет собой всегда негэнтропический процесс.
Описываемая борьба протекает в сложном, многократно переменном поле условий. Во-первых, доступная мозгу экстраполяционная оценка перспектив и исходов поневоле грубо приблизительная (хотя, вероятно, соотносительно с потребностями данного живого существа она не грубее у самых низких по уровню организации животных, чем у существ с высокоразвитым мозгом), причем погрешности экстраполяции возрастают с удлинением того промежутка времени Δt, на который делается попытка предвосхищения.
Во-вторых, сама оценка зависит от срока, каким располагает субъект для ее выполнения: если события развертываются быстро и индивид находится в «жизненном цейтноте», то он вынужден ограничиваться первыми, грубо разведочными оценками, не имея времени для более точных. Но даже и вне условий угрожающего цейтнота выбор стратегии поведения является всегда и выбором между быстрыми, хотя и менее уверенными и более медленными, но более надежными оценками. В-третьих, наконец, само поле условий изменчиво во времени и находится вне зависимости от действий индивида, так что фактически он все время находится в своего рода конфликтной ситуации с окружением. Уже отсюда видно, какую важность для физиологии активности должна иметь разработка теории игр.
К числу ближайших задач, требующих совместной работы физиологов и математиков, относится вопрос о том, какого вида экстраполяции используются нервными системами как низших, так и высших организмов и какими механизмами они располагают для таких отправлений. В области низовых, чисто биомеханических регуляций, опережающих движение на минимальные отрезки времени, мы, видимо, встретимся с экстраполяцией по типу разложения в ряд Тейлора с использованием отправных значений двух первых производных, сигнализируемых суставными и мышечными датчиками (так называемая градиентная экстраполяция). По отношению к более ответственным в смысловом плане сторонам движения, которые могут уже потребовать перепрограммирования на ходу, высшие координационные системы и синтезы мозга обнаружат перед исследованием формы вероятностной экстраполяции, находящейся у них «на вооружении», и, несомненно, также те методы активного прощупывания, которые находят формулировку и практическое применение в современной вычислительной математике (так называемые методы нелокального поиска)7.
Необходимо подчеркнуть решающее принципиальное различие между этими намечаемыми физиологией активности проявлениями экстраполяционного поиска и путем, описывавшимся бихевиористами под названием «проб и ошибок». Под последними понимается последовательность попыток, каждая из которых не обусловлена предыдущими и в одинаковой с ними мере производится наудачу. Здесь активна только внешняя форма — выполнение пробных действий, накопление же опыта трактуется, по сути, как чисто пассивный статистический учет удач и неудач. Образно говоря, тут каждая проба информирует о том, что «нельзя», не указывая ничем, где и как искать то, «что нужно». Не случайно этот принцип так легко имитируется в машинных моделях.
В отличие от него тот активный «нелокальный поиск», который, видимо, является действительным орудием ориентировочного поведения, после первой же пары попыток, случайных или приближенно направленных элементарными градиентными механизмами, заключает по ним, как и куда должен быть сделан очередной шаг. Каждая проба уточняет таким путем оптимальное направление, по которому может быть добыта наибольшая и самая ценная информация.
VIII. Что известно сегодня экспериментальной физиологии о проявлениях и эффектах «модели будущего» и какие направления исследования могут здесь быть намечены на основе всего точно известного сейчас? Обратимся снова конкретно к движениям.
Из многообразных функций центральной нервной системы по управлению двигательным актом раньше всех остальных уяснились процессы корригирования движения по ходу его выполнения, совершаемые посредством колец обратной связи с многочисленных датчиков тела. Посредством такой непрерывной коррекции обеспечивается важнейшая биомеханическая предпосылка для выполнимости любого целенаправленного движения: преодоление всего огромного избытка степеней свободы, которыми наделены наши двигательные органы, и превращение их этим путем в управляемые системы. Эта функция и представляет собой техническую сторону координации движений.
В протекании координационного процесса (в микроинтервалах времени и пути движения) важнейшую роль играют характерные особенности самого общего и первичного свойства всех возбудимых органов, состоящего в том, что все они обладают конечными и при этом переменными значениями порогов возбудимости. Их абсолютные величины чрезвычайно разнообразны у разных органов, а у каждого данного органа могут изменяться в широких пределах в зависимости от их фонового физиологического состояния.
Отсюда проистекают следствия первостепенного значения для управления двигательным аппаратом. Центральные мозговые системы организации и координирования двигательных актов, оснащенные всем богатством контрольных чувствительных датчиков, обладают благодаря последнему из названных выше свойств широкими возможностями для того, чтобы не только исправлять post factum возникающие рассогласования между намерением и действительным ходом движения. Опираясь на намеченную программу действия, центральная нервная система в состоянии осуществлять и действительно осуществляет еще и преднастройки возбудимости всех занятых чувствительных и двигательных элементов. Эти интереснейшие, все еще пока ощупью изучаемые регуляции ante factum, как бы опережающие движения на микроотрезке времени и явственно связанные со всеми обсуждавшимися выше механизмами антиципации и экстраполяции, получали в различных условиях наблюдения и от разных наблюдателей названия то нервно-мышечного тонуса, то физиологической установки, то (в последние годы) функции ретикулярной формации мозга, хотя все большее количество данных говорит о том, что здесь мы имеем дело с одним и тем же обширным кругом взаимосвязанных фактов.
В наиболее точном и современном определении нервно-мышечный тонус есть центрально управляемая настройка всех функциональных параметров каждого мышечного элемента и его эффекторного нервного волокна. Эта настройка сказывается и на механических свойствах мышцы, как в возбужденном, так и в невозбужденном состоянии (ее упругости, растяжимости, вязкости), на степени и быстроте возбудимости ее нерва и, вероятно, на скорости проведения по нему возбуждения. По ходу движения одни мышцы заранее (за доли секунды) притормаживаются, возбудимость других, которые должны начать действовать, увеличивается вследствие понижения их силовых и временных порогов и т. д. Эта фоновая преднастройка важна еще и потому, что скорость движения импульсов-сигналов по нервам ограничена, а при переходах с одного нейрона на другой происходят еще потери миллисекунд на «синаптические задержки». Таким образом, без описанного опережения полезные эффекты действия сигналов обратной связи неизбежно запаздывали бы по отношению к тем нарушениям движения, о которых они сигнализируют.
Эти процессы опережающей преднастройки наблюдаются при современной электрофизиологической технике лишь с трудом и отрывочно. Естественно, что удобнее всего улавливать их перед началом движения, когда слабые и нежные биоэлектрические проявления тонических команд не заслонены гораздо более мощными и высоковольтными потенциалами действия. Эти предваряющие начало движения тонические сдвиги именуются тогда нервно-мышечными эффектами установки. Усовершенствования техники регистрации биоэлектрических явлений в мышцах и нервах позволят изучать установочные процессы («стрелочные переводы», по образному выражению Lapicque) в течение всего двигательного акта.
Наиболее интересные, но еще только начинающие выявляться проблемы связаны, конечно, с центральной мозговой регуляцией установочных процессов. Некоторые из проблем, намечающихся в этом направлении, неожиданным образом снова и с новой стороны поведут нас к коренным вопросам мозгового отображения и кодирования. Начнем несколько издалека.
Физиологи уже давно и четко разграничивают две очень различающиеся между собой формы возбудительного процесса, одновременно и совместно существующие в нервном и мышечном субстрате. Одна из этих форм, более молодая в эволюционной истории (ее правомерно называть неокинетикой), проявляет себя ритмическими цепочками взрывообразных импульсов возбуждения (так называемых пиков действия, или спайков, — spikes), подчиненных закону «все или ничего», т. е. имеющих при каждом данном значении своих параметров возбудимости одну и ту же высоту в ответ на воздействия любой надпороговой силы. Эти импульсы распространяются без затухания и со значительными скоростями (метры и десятки метров в секунду) вдоль нервных волокон. Благодаря тому, что последние на всем протяжении «рефлекторных колец» снабжены изолирующими миелиновыми оболочками со свойствами диэлектриков, нервные импульсовые коды, бегущие по смежным волокнам, тесно упакованным в нервном стволе, не создают взаимных помех и утечек, что дает полное основание обозначить их как канализованную или, короче, каналовую форму нервного процесса.
Вторая форма проявлений активности в нейронах и мышечных единицах, более древняя по своему появлению в филогенезе (палеокинетика), сохранившая у высших млекопитающих и человека монопольное положение по управлению гладкой мускулатурой внутренних органов, приняла на себя в их органах чувств и движений роль передатчика тех тонических настроечных функций, о которых выше шла речь. Ее проявления резко качественно отличаются от неокинетических: они дозируемы, т. е. чужды закону «все или ничего»; они двузначны, т. е. могут проявлять себя возбуждением или торможением; их активность лишена взрывообразности, допуская вместо миллисекундных дискретных пиков медлительные волны любой формы и высоты. Самое своеобразное свойство их заключается в том, что диэлектрические оболочки волокон не составляют для них преграды, так что они, по крайней мере какой-то важной своей составляющей, способны распространяться поперек волокон8. Справедливо поэтому данную форму в противоположность неокинетической каналовой определить как волновую форму нервного процесса. Естественно, что в сравнительно тонких периферических нервных стволах последнее свойство не находит себе достаточного простора. Зато по отношению к головному мозгу можно утверждать с уверенностью, что именно эти волновые процессы, пронизывая значительные толщи мозгового вещества и вдобавок черепные покровы, улавливаются в настоящее время посредством электроэнцефалографии как то, что в нестрогом обозначении именуется биотоками головного мозга.
Не надо забывать, что канализованные, строго изолированные друг от друга неокинетические цепочки импульсов в нейронах головного мозга не в состоянии выбиться из русел своих оболочек и обнаружить себя в электроэнцефалограммах. Энцефалограммы, кстати сказать, не имеют никакого сходства ни по частотам, ни по формам с импульсовыми цепочками «все или ничего», наблюдаемыми в нервных волокнах, ни с любыми суперпозициями их. Не только соображения аналогии, но и ряд кинетических наблюдений, особенно над аномалиями электроэнцефалограмм при болезненных состояниях, не оставляют сомнения в том, что и в головном мозгу волновая форма процессов играет какую-то важную роль в регуляции канализованных процессов. Более чем вероятно, что их регуляционная активность стоит в теснейшей связи с функциями ретикулярной формации мозга, упоминавшейся выше. Не касаясь далее этой части проблемы, интенсивно и успешно разрабатываемой в наши дня эксперименталистами и клиницистами, подойдем к вопросу с другой стороны.
IX. История науки о функциях мозга пережила за два столетия своего существования несколько крутых колебаний между двумя противопоставлявшимися друг другу воззрениями на связь этих функций с мозговым субстратом. После того как в первой половине XIX в. труды Флуранса и его современников, казалось, обеспечили полное торжество антилокализационной точки зрения, т. е. признания мозговых процессов исключительно волновыми, протекающими на недифференцированном субстрате, открытие проекционных зон коры (с 1870 г.) заставило маятник взглядов резко качнуться в другую сторону. Именно накапливание все большего количества фактических данных о первичных проекциях привело к интенсивному развитию всех тех воззрений клеточного центризма, которых мы уже касались в этом очерке. Головной мозг стал трактоваться как высокодифференцированное вместилище исключительно каналовых процессов в нервных проводниках (аксонах) с клетками-головками соответствующих нейронов в роли спусковых кнопок действия в двигательных отделах и в роли хранителей-накопителей приобретенного опыта миропознания — в чувствительных зонах.
Узость этой позиции была настолько явной, что уже на памяти живущего поколения, в 30-х годах, «крайняя левая» антилокализационизма снова подняла голову, пытаясь доказать (школы Lashley, Weiss и др.) полную обезличку клеток головного мозга и необходимость переноса всего центра тяжести учения о дифференциации нервных процессов на поиски специфичности самих импульсовых кодов, протекающих по нервам и по мозговой массе.
Сейчас нет уже надобности решать вопрос о правоте того или другого из крайних направлений, ставить проблему в плоскости «или — или». Хотя в гигантском фактическом материале, накопившемся к нашему времени, есть солидные аргументы в пользу как одной, так и другой точки зрения, было бы уже нецелесообразно подвергать их дискуссии или же искать эклектических примирительных решений. Настало время ясно понять следующее.
Высочайшая дифференцированность коркового мозгового субстрата, особенно у высших животных, находится сейчас вне всякого сомнения. Но именно поэтому в огромном конгломерате активных возбудимых элементов-нейронов, находящихся в полужидкой электролитной среде, есть все условия для развития поперечных волновых процессов взаимодействия между множеством этих элементов. Более того, трудно было бы оспаривать сейчас, что чем выше возрастают морфологическая, «локализационная» дифференциация и расчлененность мозгового субстрата, тем интенсивнее и предпосылки к развитию в нем или на нем и нелокализуемых, волновых процессов. Любой электрик, имеющий дело с переменными токами и полями, подтвердит, какую заботу приходится проявлять по части экранировки собираемого агрегата от взаимных индуктивных и емкостных влияний его элементов. Конечно, в безмерно большей степени это должно относиться к сложнейшему живому агрегату внутри жидкой электролитной массы, свойства и заряды которой являются переменными в функции как времени, так и координат каждой его точки.
Менее всего правильным было бы представлять себе волновые процессы головного мозга как макроскопические фронты, сравнимые по масштабам с габаритами всей черепной коробки. Наоборот, в соответствии с микроскопической неоднородностью мозговой массы по ее изменчивым электрическим параметрам и мгновенным распределениям в ней зарядов необходимо представлять себе эти процессы как имеющие очень тонкую, «кружевную» пространственную и временную структуру. Те колебания, которые регистрируются через черепную крышку как электроэнцефалограмма, представляют собой, конечно, не более как слитный «гул».
Трудно сомневаться в том, что на волновые процессы, складывающиеся из бесчисленных «поперечных» взаимодействий нейронов и проводящих путей мозга, должна налагаться и, видимо, в какой-то форме доминировать над ними тоническая регуляционная активность со стороны ретикулярной формации гипоталамического аппарата, а, возможно, также со стороны мозжечка и стволовых клеточных ядер мозга. В этих областях еще бесконечно больше несделанного, чем сделанного!
Вся эта констатация, во весь рост ставящая перед физиологией задачу изучения центрально-нервных процессов как неразрывного синтеза каналовых и волновых слагающих, снова и напоследок подводит нас к вопросу о мозговых моделях и о проблеме раздвоения «зримого» и «зрителя».
Клеточные центристы старательно обходили вопрос о том, что же именно отлагается в клеточках вторично-проекционных полей в качестве поручаемого им содержания. Что (кроме постулированного школой условных рефлексов неопределенного «хронического возбуждения») запечатлевается в клетке, которая должна хранить месяцы и годы образ стола, лампы, гипотенузы или наименования их? Если эти содержания переданы мозгу соответствующими кодами, то как, по каким признакам такой код находит для себя подходящую, еще не занятую клетку и в каком виде он там поселяется?
Вопрос о том, что представляют собой информационные мозговые коды и сохраняющие их в мозгу механизмы памяти, до сих пор остается далеко не ясным. Но необходимо подойти к нему с более современных позиций.
Неправомерность противопоставления друг другу «зримого» и «зрителя» в мозгу уже была подчеркнута выше. На месте пассивно ожидающего информации «зрителя» мы мыслим себе теперь активные операторы, объединяющие в синтетические динамические формы захват информации, ее модельное переоформление и инициативу предпринимаемых действий. Физиологически также на месте стационарных клеток, пассивно вбирающих в хранящих каким-то образом микроскопические атомы отображения мира, мы ожидаем встретиться с динамикой синтетического нервного процесса, одновременно многоканалового и волнового, едва лишь начавшего изучаться в этих аспектах. Наиболее обоснованным представляется сейчас суждение, что противопоставление первоначально безличной мозговой клетки вводимому в нее совершенно инородному и чужому ей смысловому содержанию столь же неправомерно, как и противопоставление внутренних «зрителя» и «зримого».
Если каждый активный процесс восприятия-действия связан с образованием в недрах мозга соответствующего оператора, то наиболее вероятной формой для последнего должен являться сформированный определенным образом контур, обусловливающий новый маршрут циркуляции по нему и каналового, и волнового процесса, — контур, для которого существенна и характерна сама динамическая форма его организации и связей, а не заполнение тем или другим содержимым вовлеченных в него клеток, синапсов, межуточной ткани и т. д. Для наибольшей краткости и схематизации можно было бы сказать, что смысловое содержание и действенность данного участка модели мира не заключаются в чем бы то ни было, а сами есть не что иное, как оператор в установленном здесь смысле этого термина.
Настоящий очерк о намечающихся путях и задачах физиологии активности не претендует на то, чтобы быть программным, и поэтому, конечно, далеко не исчерпывает круга относящихся сюда вопросов. В нем оставлена совершенно в стороне вся проблема аффективной мотивации произвольных действий и физиологии связи между аффективной и познавательной активностью. Не могли быть затронуты в нем и вопросы ярко выраженных негэнтропических процессов развития и роста организмов, начиная со стадии оплодотворенной зародышевой клетки и закодированной в ней тем или иным образом модели будущего организма, который будет из нее построен. В стороне остались и такие кардинальные вопросы структурирования, как взаимоотношения схемы и метричной формы, качественного и количественного в процессах развития и действования. И все же, если и по затронутому неполному кругу вопросов этот очерк сумеет пробудить те или другие перспективные для исследовательской работы мысли, веские возражения и контраргументы и т. д., цель его будет достигнута.
[1] Очерк был напечатан с некоторыми сокращениями в журнале: Вопросы философии. — 1961. — № 6. — С. 77.
[2] Указанная зависимость между мышечным возбуждением и результирующим движением чрезвычайно далека от той картины, которая уверенно рисовалась физиологам прошлого столетия. Тогда казалось естественным трактовать двигательную область коры мозга как своего рода кнопочный пульт, на котором чья-то рука полновластно выполняет рисунок того или иного двигательного стереотипа: нажим — раздражение одной кнопки-клеточки вызывает всегда одинаковый элемент сгибания определенного сустава, нажим другой — его разгибание и т. п.
[3] Здесь перед нами типичный случай системы управления на обратных связях — устройства, в сравнительно простых формах широко применяемого в современной технической автоматике. Попутно стоит заметить, что тот же принцип регулирования по обратной связи в последние годы установлен для самых разнообразных отправлений организма: реакций зрачка, кровяного давления, сердечной ритмики, химических равновесий и т.д. Как это стало неоспоримым теперь, всеобщей и господствующей формой управления и регулирования в живых организмах является не рефлекторная дуга, а рефлекторное кольцо.
[4] Условные рефлексы приходится относить не к промежуточному, а к первому из перечисляемых здесь типов, так как в выработанном и отдифференцированном условном рефлексе раздражитель выполняет не только пусковую, но и известительную функцию, полностью определяя, последует ли за ним ответный акт, или дифференцировочное торможение, или иная форма акта и т. п.
[5] См. мою заметку «Смерть от страха ожидания смерти» (Наука и жизнь. — 1965. — № 2. — С. 149), где названные литературные примеры сопоставлены с реальными описанными случаями.
[6] Убеждающий пример проверки через практику: не может не остановить на себе внимания выявившаяся невозможность применения многолетней продукции по линии второй сигнальной системы для задач алгоритмирования машинного перевода, где настоящая физиологическая теория языка и речи должна была бы занимать ведущее место. Содержательный анализ сущности и причин этого факта см. в кн.: Успенский Л. Слово о словах. — М.: Молодая гвардия, 1960. — С. 283; Кулагин О. Об оперативном описании алгоритмов перевода // Проблемы кибернетики. — 1959. — Вып. 2. — С. 289.
[7] Гельфанд И. М. Принцип нелокального поиска в системах автоматической оптимизации / И. М. Гельфанд, М. Л. Цетлин // Докл. АН СССР. — 1961. — Т. 137. — Вып. 2.
[8] Указанную разницу в свойствах проницаемости нервных оболочек по отношению к неокинетическим и палеокинетическим формам нервного процесса естественнее всего объяснять тем, что этот процесс ни в той, ни в другой форме не исчерпывается только электрическими явлениями и, несомненно, имеет ряд еще неизвестных слагающих и характеристик.