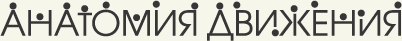ОЧЕРК ДВЕНАДЦАТЫЙ
НОВЫЕ ЛИНИИ РАЗВИТИЯ В ФИЗИОЛОГИИ И БИОЛОГИИ АКТИВНОСТИ1
Начиная примерно со второй четверти нашего века, физиология вступила в новую фазу или новый период своего развития, пришедший на смену «классическому» периоду. Весь путь, пройденный физиологией за предшествующее столетие и достойный названия «классического», совершался под знаком стихийного материализма. Это мировоззрение руководило и прославившими свое время исследователями (их было слишком много, чтобы перечислить здесь даже самые крупные имена), и популяризаторами, на книгах которых воспитывались младшие поколения.
Стихийный материализм претерпел немало боев как с откровенными мракобесами фидеизма, так и с более тонкими и опасными противниками из виталистического лагеря. Эти бои способствовали тому, что материалистические воззрения на природу организма и совершающихся в нем процессов, на мозг и мышление получили закалку и стали мощным оружием идеологической борьбы против всевозможных поползновений сторонников идеалистических взглядов.
Отечественная наука может по праву гордиться тем, что выдвинула блестящую плеяду физиологов мирового значения, авторов важнейших исследований по всем разделам физиологии.
И если наше время смогло открыть перед физиологической мыслью новые горизонты и перспективы, то только благодаря тому, что физиология обладала уже важнейшими отправными точками в сокровищнице достижений этих корифеев классического периода науки о жизнедеятельности.
Вся история положительного знания приводит к неоспоримому выводу, что неукоснительное развитие всех отраслей науки о природе от древнейших времен, от Фалеса и Пифагора, до наших дней обязано беспрерывным прогрессом тому, что каждая очередная ступень развития науки находила в себе силы для беспощадного преодоления предыдущей.
Все исторические примеры, начиная с торжества гелиоцентрической системы и кончая той революцией, которую в начале нашего века пережила физика, говорят о том, что мы должны уметь соединять в себе преклонение и пиетет перед крупнейшими учеными предшествующей эпохи с безбоязненным отрицанием в их творениях того, что уже пережило свою фазу прогрессивности и может стать (как бывало не раз) тормозом для дальнейшего развития науки.
В естествознании, как и всюду, есть великие деятели, но нет и не может быть непререкаемых авторитетов.
Преемственность развития и его непрерывность — не одно и то же. История каждой ветви естествознания знает периоды (иногда очень длительные) спокойного и непрерывного развития по установившемуся руслу. Но эти периоды непрерывности сменяются время от времени диалектическими скачками развития, полосами то более мягкой, то бурной революционной смены устоявшихся представлений и концепций, вроде той крутой ломки самых фундаментальных понятий физики, которая была начата трудами и открытиями Планка, Эйнштейна, Бора и их знаменитых современников. Эти фазы диалектического отрицания и антитезы не менее преемственны в смысле их исторической необходимости и обусловленности, нежели полосы спокойного и непрерывного развития, но они отражают назревшую по тем или иным причинам необходимость критического пересмотра отправных точек мышления, свойственных завершившемуся периоду данной науки.
Все великие заслуги физиологии классического периода не могут уже заслонить от нас того, что она — дочь своего времени — явилась в основном плодом механистического материализма. Несомненно, на нашей обязанности лежит и выяснение тех недостатков, имманентно присущих механистической методологии в естествознании, которые в полной мере отразились в воззрениях представителей классического периода физиологии, и постановка научной физиологии на прочные рельсы материалистической диалектики.
По-видимому, всем ходом исторического развития и возникновением новых производственных форм приходится в первую очередь объяснить зарождение как тех новых линий развития физиологии, которым посвящен настоящий очерк, так и тех весьма общих задач организации труда, которые привели после ряда стихийных попыток к рождению научной кибернетики. Если понимать кибернетику как общую науку об управлении сложными системами информации и связи (так именно она и будет пониматься во всем последующем изложении), то обнаружится, что очень большая и важная часть вопросов, вставших перед современной физиологией и направивших ее на новые пути развития, близко и тесно соприкасается с теми более общими теоретическими задачами, для разрешения которых и была предпринята разработка научной кибернетики.
Отсюда делается понятным то, что кибернетика нашла и продолжает находить для себя вдохновляющие примеры в новых открытиях и материалах физиологии и что физиология (главным образом наша отечественная) сумела сформулировать некоторые из наиболее важных кибернетических понятий раньше, чем появились на свет первые обобщающие труды зарубежных кибернетиков. Так или иначе обнаружившаяся близость и прямая связь между актуальными задачами физиологии и теми проблемами, над которыми работает кибернетика, приводят к тому, что последняя оказывается в настоящее время ценнейшим методическим орудием для физиологического исследования. Таким орудием при правильном и умелом его использовании является и выработанный кибернетикой круг понятий и терминов, и побуждаемые ею к разработке новые ветви математики, и, наконец, те неисчерпаемо богатые технические ресурсы электроники, которые оказалось возможным в разнообразнейших видах поставить на службу физиологическому исследованию.
Необходимо лишь еще раз подчеркнуть, что было бы глубоко ошибочно рассматривать кибернетику как ввезенную на нашу почву определенную доктрину с теми или иными достоинствами и пороками (так у нас и пытались рассматривать эту науку первоначально). Это наука, которая может и должна быть поставлена на правильные методологические рельсы и которая способна принести неоценимую методическую пользу биологической науке вообще и физиологии в частности.
Последний, приблизительно полувековой период является временем глубоких и очень разносторонних сдвигов, продолжающихся и сейчас и касающихся как объектов исследования, так и всей теории и методологии физиологической науки. Прежде всего физиология классического периода была почти исключительно физиологией животных с постепенным типовым повышением их уровня по филогенетической лестнице (лягушка — голубь — кошка — собака — макака). В связи с этим она слабо соприкасалась с практикой. В последний период, наоборот, все более повышается удельный вес физиологии человека и возрастает количество точек ее практического приложения.
На место характерного для классики стремления изучать функции органов и систем в состояниях покоя (декапитация, наркоз, привязной станок) приходит исследование человека в условиях деятельности, возникают прикладные дисциплины (физиология труда, биомеханика, физиологическая профессиография и т. д.). Это перемещение интереса в сторону деятельных рабочих состояний особенно сказывается в повышении внимания к двигательным функциям — разделу физиологии, бывшему, за минимальными исключениями, в полном забросе в течение классического периода.
Наряду с этими изменениями объекта исследования совершается глубокий, принципиальный пересмотр и переработка самых основных понятий предшествующего периода.
Главным знаменем и ведущим принципом классического периода являлась рефлекторная дуга. В полной мере были оценены положительные методологические черты этого принципа: возможность исчерпывающего материалистического детерминизма и ясность постановки основной задачи — нахождения закономерных входно-выходных взаимоотношений организма с окружением, формулирования передаточных функций, наконец, четкой трактовки организма как высокоорганизованной реактивной машины.
Характерный для механистического материализма атомизм, стойкая уверенность, что целое есть всегда сумма своих составных частей и ничто более, легко позволяли мириться со многими упрощающими построениями, уже не выдерживающими в наши дни натиска новых фактов и современной методологии. Принятие атомистических воззрений позволяло рассматривать целостный организм как совокупность клеток (см. концепции Биша или Вирхова), а его поведение и жизнедеятельность — как подобные же совокупности или цепи рефлексов. Воззрениям стихийных материалистов, недооценивавших решающе важный фактор целостности и системности организма и его функций, чуждо было понимание того, что рефлекс — не элемент действия, а элементарное действие, занимающее то или другое место в ранговом порядке сложности и значимости всех действий организма вообще.
Установленный к нашему времени всеобщий факт регуляции и контроля всех отправлений организма по принципу обратной связи заставляет признать необходимость замены понятия рефлекторной дуги, не замкнутой на периферии, понятием рефлекторного кольца2 с непрерывным соучаствующим потоком афферентной сигнализации контрольного или коррекционного значения. Судя по всему, даже в самых элементарных видах рефлекторных реакций организма имеет место кольцевое замыкание указанного типа, лишь ускользавшее от внимания вследствие краткости и элементарности этих реакций. Таким образом, приходится рассматривать рефлекторную дугу как первое приближение к фактической картине основного типа нервного процесса, приближение, прогрессивная роль которого (в свое время очень значительная) к настоящему времени уже сыграна.
Важнейшее принципиальное значение перехода от структурной схемы дуги к схеме кольца не ограничивается признанием огромного значения контрольно-коррекционной афферентации3 в каждом случае упорядоченного реагирования. На месте атомизированной цепочки элементарных рефлексов, не связанных ничем, кроме последовательного порядка так называемого динамического стереотипа и поэтапной «санкционирующей» сигнализации, современное физиологическое воззрение ставит непрерывный циклический процесс взаимодействия с переменчивыми условиями внешней или внутренней среды, развертывающейся и продолжающейся как целостный акт вплоть до его завершения по существу.
Эта концепция позволяет сблизить между собой две обширные группы физиологических процессов — эффекторные и рецепторные. В последних сейчас отчетливо прослеживается кольцевой тип связи между эфферентными и афферентными нервными импульсами. Именно кольцевой связью объясняется неизменно активный характер протекания всех видов рецепций. Внешние органы чувств всех модальностей оснащены мускулатурой, как гладкой, так и поперечнополосатой, участвующей в настроечно-приспособительных изменениях в этих органах. Сам процесс восприятия протекает не как пассивное запечатление (вдобавок с подчеркиванием необходимости повторов для усиления проторительного аффекта, как если бы здесь был применим закон Тальбота), а как активный от начала до конца прогресс, о чем речь будет ниже.
Решающую важность кольцевой структуры процессов управления двигательными актами можно уже считать общеизвестной. Здесь следует упомянуть только о том, что весь характер работы рецепторов и сенсорных синтезов при выполнении ими контрольно-коррекционных функций в кольцевом процессе управления двигательными актами оказался, по современным данным, глубоко отличным от функционирования этих же рецепторов в сигнально-пусковой роли4. С позицией незамкнутой рефлекторной дуги могла быть замечена и принята в расчет только вторая из названных выше форм функционирования — восприятие безусловных или условных стимулов реагирования, что оставляло вне поля зрения глубоковажные формы работы рецепторики как неотрывного участника кольцевых процессов взаимодействия с внешним миром.
Уже упоминалось выше о вирховианской клеточной мозаике и трактовке сложных смысловых двигательных актов как цепной постройки из элементарных кирпичиков-рефлексов. Но этот же принцип мозаичности использовался в рассматриваемом периоде еще гораздо более широко. Вслед за обнаружением в коре головного мозга первичных проекций сенсорных и сенсомоторных полей стала очевидной необходимость допустить рядом с этими проекциями, передающими мозгу всю текущую сенсорную информацию, области, в которые передаются и складываются впечатления для длительного хранения в памяти.
Эта необходимость привела к созданию очень детально разработанной принципиальной схемы работы мозга, названной клеточным центризмом (С. С. Корсаков, И. П. Павлов, В. М. Бехтерев и др.) В основе этой предположительной схемы лежали представления: а) о первоначально порожних клетках, каждая из которых в какие-то очередные моменты жизни заполнялась микроэлементами информации, прибывающей от органов чувств; б) о проекции в эти клеточные поля сложных восприятий из внешнего мира по простейшим принципам поэлементного соотнесения множества элементов картины мира к множеству клеток, воспринимающих и хранящих эти элементы.
Эта концепция создавала возможность трактовать совокупность накопленного в течение жизни сенсорного опыта как коллекцию или совокупность запечатленных в клетках памяти элементов этого сенсорного опыта в их сигнальной роли (напомним, что это была единственная роль рецепторов, известная адептам рефлекторной дуги). Речевую систему, сложнейшую по своей структуре и глубокому своеобразию отношений между мыслью и словом, та же мозаичность вполне последовательно представляла как еще одну поэлементную коллекцию — словник, разнесенный по корковым клеткам того же типа, что и выше.
С этой интерпретацией речи (в частности, устной речи) как сигнальной системы связан, помимо основной методологической ошибки мозаичизма, еще один своеобразный недосмотр со стороны авторов этой системы. Генетически в развитии речевой функции имели место, по-видимому, два этапа: этап смысловых сигналов, звуковых или жестовых, и этап формирования знаковой системы как орудия отображения и осмысления мира.
Разновременность того и другого этапов в филогенезе лучше всего подтверждается, во-первых, многочисленными, быстро скапливающимися к настоящему времени фактами наличия смысловых сигналов обоих видов (звуки и жесты) у ряда животных, как позвоночных (млекопитающие и птицы), так и насекомых (пчелы, кузнечики и др.), и, во-вторых, особенно ярко легкой дрессируемостью многих, и отнюдь не «высших», животных на фонематические кодовые сигналы, действующие в этом случае совершенно так же, как и иные условные стимулы (свет, звонок, чесалка и т. п.). То, что отличает речевую систему человека от указанной очень древней способности животных, состоит как раз в том, что поднимает ее над сигнальным уровнем на высшую качественную ступень, не снимая, конечно, и ее сигнальной функции, но отводя последней лишь частный и наименее значимый участок всей системы.
Высокоразвитая речевая система человека аналогична математической алгебре (может быть, это и создало возможность ее дальнейшей формализации до «логической алгебры» Буля и др.). Эта аналогия не бросается сразу в глаза, по-видимому, только вследствие нашей привычки пользоваться речью. Для математической алгебры характерно наличие условных знаков-символов (такими обычно служат буквы) и операторных символов, обозначающих функциональные отношения между первыми и те действия, которые надлежит над ними произвести.
Это же наблюдается и в структурной речи, свойственной человеку. Ее номинативные символы (имена, обозначения качеств, причастные формы и т. д.) представляют собой условные фонемы или графемы, обозначающие различные содержания в составе мыслительного процесса. Наряду с ними имеет место богатая лексика слов-операторов или этимологических характеристик, создающих между первыми смысловые функциональные отношения и превращающих речь — словник в речь — орудие познания мира и действования в нем.
Сами эти слова-операторы (не, под, ведь, или, для, разве и т. д.) и этимологические операторы (связки, суффиксы, падежные формы и пр.) ничего не отображают и не несут никакой предметной нагрузки совершенно аналогично тому, как в алгебре знаки «плюс», «минус», «радикал» и т. п. Но, может быть, на заре человеческого разума именно эти операторы — слова и мысли — явились величайшим открытием, во всяком случае безмерно более значительным, нежели создание слов-номинаторов, почему-то и до сих пор являющихся единственными представителями речи в словниках, с которыми оперируют адепты второй сигнальной системы.
Обрисованный выше недосмотр оказался жестоко отомщенным. В разработке принципов и устройств машинного перевода их авторам пришлось разрешать возникавшие задачи и трудности с первых же шагов почти на пустом месте, и теория второй сигнальной системы, имеющая за собой уже более 30 лет существования и разработки, так и не смогла прийти им на помощь. Не может быть сомнения в том, что верная действительности, подлинно физиологическая теория речи должна была бы, напротив, явиться основным фундаментом для создания и программирования машин-переводчиков.
Если не приходится сомневаться в том, что попытки физиологической интерпретации функций восприятия и речи как существенно-материальных мозговых процессов (попытки, облегченные при этом терпимостью к мозаичизму, подменяющему собой действительный синтез) были в течение всего классического периода прогрессивными, то к нашему времени необходим и неизбежен их критический пересмотр. Для нас уже очевидна методологическая порочность мозаичизма во всех его проявлениях и формах, а напор новых фактов и материалов вынуждает сейчас рассматривать обрисованный круг былых представлений и гипотез о структуре мозговых процессов как сыгравший уже свою роль первого приближения в такой же мере, как и принцип рефлекторной дуги. Более подробный анализ мозаичизма и разбор современных представлений о принципах мозгового проецирования дан мной в другой работе5.
Теперь своевременно будет обратиться к краткому обзору новых линий в развитии физиологии.
Физиология человека в условиях трудовой деятельности успела испытать важные изменения в прямой связи с эволюцией самих производственных форм. По мере безостановочного снижения удельного веса грубо физического труда прикладная физиология, начав с энергетики труда, биомеханики, охраны и гигиены физического труда и т. п., стала интенсивно переключаться на задачи интеллектуализированного труда в комплексе человека и машины, задачи рационализации управления и связи, распределения функций и т. д. — именно те задачи, для разработки которых столь ценным оказалось привлечение на помощь методов и всего круга понятий кибернетики. Важнейшим разделом современной прикладной психофизиологии, бесспорно, является также изучение труда в условиях, требующих от человека наивысшего напряжения его внимания, находчивости, воли и т. д. (космонавтика, скоростное летание, верхолазные, кессонные, саперные работы и др.).
В области теоретической физиологии сейчас могут быть названы и заслуживают рассмотрения две возникшие в самое последнее время ветви. Одна из них — физиология регуляций — была ровесницей и в известной мере родоначальницей кибернетики; вторая — физиология активности — возникает и оформляется на наших глазах. Обзор этих ветвей целесообразно начать с проблематики активности.
Чем более уяснялся принцип кольцевой регуляции жизненных процессов, тем в большей мере обнаруживалась и неотрывно связанная с ним активность. Не говоря уже о проявлениях и формах активности в самом прямом смысле — о двигательных функциях, активная форма и структура всех без изъятия процессов рецепции и центральной переработки информации находятся сейчас вне сомнений. Наше время подтвердило полностью тезис И. М. Сеченова, что «мы слушаем, а не слышим, смотрим, а не только видим». Все главные виды наших периферических рецепторов оснащены, как уже указано, эфферентной иннервацией, на долю которой приходятся как функции оптимальной настройки (в очень широком смысле), так и бесчисленные проявления поиска, наведения, прослеживания, гаптики и т. д. Сюда же относятся все виды и проявления «проверки через практику» как конкретных рецепций, так и всей наладки органов чувств, перекрестная проверка и синтезирование показаний разных рецепторов в порядке организации сенсорных синтезов. Наконец, активны сами процессы отбора необходимых минимумов информации с отсевом излишних или избыточных «шумов».
Может быть, наиболее ярко выявилось глубокое значение активных форм функционирования в области центральных мозговых процессов, связанных с построением в мозгу упорядоченной и динамичной модели внешнего мира. В то время как воззрения клеточного центризма были неотделимы от представления о пассивном характере приема и запечатления поступающей в мозг сенсорной информации предназначенными для этого изначально порожними клетками, современная психофизиологическая мысль склоняется к пониманию познавательного процесса как активного моделирования, принципиально отличного от механистического соотнесения «элемент к элементу». Активными являются и выбор принципа упорядочения воспринимаемых множеств, и внутренняя классификация выделяемых подмножеств, и управление гаптикой в самом широком смысле этого понятия, т. е. теми процессами активной рецепции, о которых было сказано выше.
Но корни принципа активности живых организмов уходят гораздо глубже, придавая ему черты важнейшего общебиологического фактора. Уместно будет начать с двигательных функций.
Двигательные отправления — это основная группа процессов, где организм не только и не просто взаимодействует с окружающим миром, но и активно воздействует на него, изменяя его в нужном ему отношении. Из этого положения вытекает следующее.
Если проанализировать, на чем базируется формирование двигательных действий, то окажется, что каждый значимый акт представляет собой решение (или попытку решения) определенной задачи действия. Но задача действия, иными словами, результат, которого организм стремится достигнуть, есть нечто такое, что должно стать, но чего еще нет. Таким образом, задача действия есть закодированное так или иначе в мозгу отображение или модель потребного будущего. Очевидно, жизненно полезное или значимое действие не может быть ни запрограммировано, ни осуществлено, если мозг не создал для этого направляющей предпосылки в виде названной сейчас модели потребного будущего.
Судя по всему, мы имеем перед собой два связанных процесса. Один из них есть вероятностное прогнозирование по воспринимаемой текущей ситуации, своего рода экстраполяция на некоторый отрезок времени вперед. Фактические материалы и наблюдения, указывающие на такие процессы, уже накапливаются нейрофизиологами и клиницистами6.
Наряду же с этой вероятностной экстраполяцией хода окружающих событий (каким он был бы при условии «невмешательства») совершается процесс программирования действия, долженствующего привести к реализации потребного будущего, о модели которого было сказано выше. Такое программирование простого или цепного действия выглядит уже как своего рода интерполяция между наличной ситуацией и тем, какой она должна стать в интересах данного индивида. Не буду задерживаться здесь на том, что и программирование, и осуществление действия совершаются обычно в условиях «жизненного цейтнота» (т. е. внутреннего конфликта между срочностью и точностью прогностики), и на том вполне очевидном обстоятельстве, что фактическое осуществление действия обязательно протекает как борьба или активное преодолевание изменчивых внешних препятствий, каковы бы они ни были (неподвластные внешние силы сопротивления, противодействие противника, неожиданности и т. п.).
В этой связи заслуживает внимания то, что признание реальности кодированной в мозгу модели или экстраполята вероятного будущего и отображения в мозгу задач действия как формул потребного будущего создает возможность строго материалистической трактовки таких понятий, как целенаправленность, целесообразность и т. п.
Действительно, в предшествующем периоде развития научной физиологии такие установленные к нашему времени факты, как кодированные отображения информационного материала, первичные или рекомбинированные мозгом, были совершенно неизвестны. Поэтому большинство таких понятий, как отвечающая потребностям организма задача или цель действия, т. е. код программы, направленный к оптимизации тех или иных условий существования организма и т. п., считалось неотъемлемой принадлежностью психологии, высокоразвитого сознания, обладающего возможностью формулирования для себя очередных задач и целей действия. Материалистическая платформа стояла, таким образом, перед альтернативой: либо допустить наличие психики и сознания у дождевого червя или дерева (это, разумеется, отвергалось как абсурд), либо считать, что ни одно из понятий обсуждаемой категории вообще неприложимо к преобладающему множеству организмов. Свободно чувствовал себя в этой области только идеалистический витализм, ничем не обоснованные гипотезы которого позволяли идти сколько угодно далеко в направлении финализма.
Именно обнаружение возможности построения и комбинирования организмом материальных кодов, отображающих все бесчисленные формы активности и экстраполяции предстоящего, начиная с тропизмов и кончая наиболее сложными формами направленного воздействия на окружение, позволяет нам теперь говорить о целенаправленности, целеустремленности и т. д. любого организма, начиная, может быть, уже с протистов, нимало не рискуя соскользнуть к финализму. Накапливаемый сейчас фактический материал из области сравнительной физиологии говорит о таком не предполагавшемся прежде разнообразии материальных субстратов регулирующих кодов и самих форм и принципов кодирования, в котором осознаваемые и вербализованные психические коды человеческого мозга занимают лишь место одной из частных, хотя и наиболее высокоразвитых форм.
К разбираемому здесь в самых критических чертах вопросу о моделировании будущего и программировании действия, направленного к оптимизации этого будущего, уместно будет присоединить два замечания.
Стоя на позициях монополии рефлекторной дуги и ограничивая круг своего внимания строго реактивными процессами, физиология классического периода могла путем очень небольшой схематизации рассматривать эффекторные процессы организма как строго (и в большинстве случаев однозначно) детерминированные сигналами, прибывающими по афферентной полудуге. Сейчас, когда факты вынуждают нас рассматривать все проявления взаимодействия организма с миром, а тем более активного воздействия на него, как циклические процессы, организованные по принципу рефлекторного кольца, оценка имеющихся здесь соотношений меняется по самому существу. В отличие от разомкнутой дуги кольцевой процесс одинаково легко может быть начат с любого пункта кольца. Это объединяет в один общий класс реактивные в старом смысле (т. е. начинающиеся с афферентного полукольца) и так называемые спонтанные (т. е. начинающиеся с эффекторного полукольца) процессы взаимодействия.
Как уже упомянуто, в ряде отношений именно последний подкласс включает в себя наиболее жизненно важные проявления активности. Существенно то, что во всех подобных случаях организм не просто реагирует на ситуацию или сигнально значимый элемент, а сталкивается с ситуацией, динамически переменчивой, а поэтому ставящей его перед необходимостью вероятностного прогноза, а затем выбора.
Еще точнее будет сказать, что реакцией организма и его верховных управляющих систем на ситуацию является не действие, а принятие решения о действии. Глубокая разница между тем и другим все яснее вырисовывается в современной физиологии активности.
Позволяя себе метафору, можно сказать, что организм все время ведет игру с окружающей его природой — игру, правила которой не определены, а ходы, «задуманные» противником, не известны. Эта особенность реально имеющихся отношений существенно отличает живой организм от реактивной машины любой степени точности и сложности. В дальнейшем мы будем отмечать, что реактивные механизмы играют немаловажную роль как технические компоненты приспособительной регуляции действий, но никогда — как прямые определители поведения.
Может быть, именно по этой причине нетрудно построить реактивную модель, способную осуществлять и формировать как безусловные, так и условные рефлексы (например, модели Walter и т. д.). Но создание модели, осуществляющей (или улучшающей) выбор оптимального поведения в условиях чисто вероятностной информации о «ходах противника», представляет трудности, которые кибернетика едва начала преодолевать.
Обрисованные сейчас новые представления о принципах активного поведения перекликаются, с одной стороны, с данными о физиологических механизмах автоматизации и деавтоматизации двигательных актов7, с другой — с новыми математическими моделями иерархических координационных отношений, предложенными И. М. Гельфандом, В. С. Гурфинкелем и М. Л. Цетлиным8. Есть много оснований считать, что вышележащий управляющий прибор центральной нервной системы не командует детально всем процессом движения данного сегмента периферического двигательного аппарата, а лишь определяет ту «матрицу» управления и корригирования, по которой подчиненный ему «центр» работает уже со значительной долей самостоятельности.
При этой ситуации, принципы которой хорошо известны из общей теории автоматического регулирования, на долю вышележащего «центра» приходится решение таких задач, как назначение определенного режима в самом широком смысле этого термина и контроль, переключение и адаптирование его к определяющим чертам ситуации и решаемой задачи. В аварийных случаях, когда низовой сегментарный «центр» подает в восходящую афферентную линию своего рода аларм-сигнал о непосильности для него справиться с создавшимся положением своими средствами в рамках доступных ему матричных вариантов, возглавляющий аппарат существенно перепрограммирует всю стратегию совершаемого действия.
По давно установленному общему правилу, от движений с многоуровневой иерархией управления и корригирования в поле сознания попадают только афферентные сигналы и вызываемые ими коррекционные команды самого верхнего, «ведущего» уровня данного движения. Постепенная передача координационных коррекций технического значения на управление нижележащих, подчиненных координационных уровней и соответствующих сенсорных синтезов, сопровождаемая уходом этих коррекций из поля сознания, есть давно и хорошо известное явление автоматизации.
И это явление, и противоположное ему явление деавтоматизации в результате тех или иных дезорганизующих внешних или внутренних причин, оба до сих пор знакомые физиологам только по их описанию, находят теперь для себя модель в форме обрисованной выше иерархии из низового прибора, обладающего значительной автономностью в ведении «игры», и вышестоящего командного поста, руководящего им. С такой моделью, естественно, согласуется и то, что кольцевые процессы низового матричного управления так и не достигают высокостоящих уровней осознания именно потому, что им предоставлена большая степень самостоятельности.
Этим низовым приборам, очевидно, доступно и принятие срочных тактических решений в ситуациях, не оставляющих времени на «запрос» верховных центров по соответствующему межуровневому координационному кольцу.
Ценность и прогрессивность замысла обсуждаемой модели не в догадке, что мерилом и «штрафом» для активности низового устройства является именно притекающая к нему афферентация (что для физиолога по меньшей мере спорно), а в формулировке самой модели, хорошо доступной для опытной проверки и существенно приближающей нас к уяснению координационных механизмов активного двигательного поведения организма.
Второе замечание, которое уместно здесь сделать, относится к вопросу о чисто физиологических, объективных проявлениях того «моделирования будущего», которое все более выявляется как необходимая предпосылка целенаправленной активности. Нужно сказать, что значительное количество наблюдений, относящихся еще к классическому периоду физиологии и принадлежащих, как тогда казалось, к очень разновидным областям явлений, в настоящее время начинает складываться в единую стройную систему центральных управляющих процессов. Прежде всего в нее входят настроечные процессы возбудимости и синаптической проводимости, наблюдавшиеся еще Sherrington как центрально-возбудительные и центрально-тормозные спинальные состояния, которые ставились им в несомненную связь с реципрокной регуляцией мышц-антагонистов.
Принимая часть за целое, Lapicque видел в явлениях центрально регулируемого синхронизма и гетерохронизма нервно-мышечных пластинок своего рода предваряющий «перевод стрелок» для правильного избирательного заадресования эффекторных импульсов к мышцам.
А. А. Ухтомский и его продолжатели усматривали аналогичную установочно-регуляционную роль за нервными ритмами, их усвоением и настройкой. Наконец, в обширном круге явлений нервно-мышечного тонуса нельзя было не заметить проявлений своего рода предварительной, опережающей настройки мускулатуры.
С другой стороны, усовершенствование техники электромио- и электронейрографии все более расширяет круг экспериментов, вскрывающих перед нами нервно-мышечную динамику так называемой установки, которая снова есть не что иное, как усмотренные в новом аспекте и посредством иной техники все те же центрально управляемые процессы преднастройки нервно-мышечной периферии. Все указывает на то, что в каждом двигательном акте, протекающем в форме непрерывного кольцевого процесса, афферентная информация об этом акте мобилизует в то время центральные настроечные системы, функционирование которых как бы опережает фактическое выполнение каждой фазы движения на какой-то отрезок времени вперед.
В настоящее время биология пришла к понятиям организма, во многих отношениях глубоко отличным от формулировок классического периода, трактовавших организм как реактивно уравновешивающуюся или саморегулирующуюся систему. Организм теперь рассматривается как организация, характеризуемая следующими двумя главными, определяющими свойствами.
Во-первых, это организация, сохраняющая свою системную тождественность сама с собой, несмотря на непрерывный поток как энергии, так и вещества субстрата, проходящих через нее. Несмотря на то, что ни один индивидуальный атом в организме не задерживается в составе его клеток дольше сравнительно краткого времени (за малыми исключениями, типа, например, костных кальцитов), организм остается сегодня тем же, чем был вчера, и его жизнедеятельность сегодня обусловливается всей его предшествующей жизнью.
Во-вторых, при всем этом организм на всех ступенях и этапах своего существования непрерывно направленно изменяется. Эта направленность онтогенетической эволюции неоспоримо доказывается хотя бы тем, что тысяча представителей одного животного или растительного вида развивается в особей, одинаковых по всем своим основным или определяющим признакам, несмотря на иногда весьма резкую неодинаковость внешних условий жизни у разных индивидов. Что касается эмбриогенеза, то сегодня уже известны и носители наследственных признаков, и их химическая структура, и кодовый алфавит, при посредстве которых организм, уже начиная со стадии оплодотворенного яйца, обладает закодированной моделью будущего своего развития и оформления и закодированной же программой последовательных ступеней этого развития9.
Отмеченная выше тождественность результатов морфогенетического развития на фоне изменчивых условий говорит о том, что организм активно преодолевает возможные и неизбежные внешние препятствия на пути программы своего морфогеза. Экспериментальные факторы повреждений и частичных ампутаций (например, почек, конечностей) в эмбриогенезе — ампутаций, не мешающих этим органам все-таки развиться в полноценную конечность, факты анатомических и даже функциональных регенераций, клинический материал — все эти данные говорят о том, что организм в целом и, весьма возможно, каждая его клетка активно борются за свое сформирование, развитие и размножение. Процесс жизни есть не «уравновешивание с окружающей средой», как понимали мыслители периода классического механицизма10, а преодолевание этой среды, направленное на сохранение статуса или гомеостаза, движение в направлении родовой программы развития и самообеспечения.
Таким образом, то, что в частном случае двигательных функций животных организмов выглядит как моделирование потребного будущего в форме задачи действия и как реализация интерполированной программы этого действия в порядке преодолевания внешних препятствий и активной битвы за результат, оказывается проявлением общего, глубоко проникающего в биологию принципа активности. Этот принцип проявляет себя как в процессах роста и развития животных и растений, так и в их борьбе за реализацию всего, что им потребно.
Здесь возникает один чрезвычайно интересный вопрос, объемлющий, по-видимому, всю область биологии. Он находится в тесной связи как с теоретическими принципами биологического моделирования, так и с описанными выше фактами направленной эволюции индивида.
Начну с ряда параллелей между внешне чрезвычайно разнородными группами процессов, чтобы сформулировать, в чем состоит их общность.
На дубе или клене имеется несколько тысяч листьев. Среди них заведомо не найдется и двух взаимоконгруэнтных: всевозможные метрические признаки их дают широкие вариационные ряды. И тем не менее мы можем сказать, что принадлежность каждого листа к дубу или клену не вызывает никаких сомнений по каким-то признакам, которые волей-неволей нужно назвать существенными.
Человек совершает повторные навыковые движения. Он, например, может на бумаге или крупно мелом на вертикальной доске писать (как показали опыты) с помощью ног или рта, и при этом мы не найдем и пары конгруэнтных начертаний. А между тем во всех этих случаях сохраняется все время индивидуальный почерк. Человеку беспрепятственно выдают деньги из сберкассы по его подписи, хотя она наверняка не конгруэнтна ни с кассовым образчиком, ни со своими повторениями. Хроноциклограммы всевозможных циклических навыковых движений подтверждают то же в отношении траекторий отдельных циклов. Наше интуитивное восприятие, не подкрепляемое точной формулировкой, создало такие аналогичные почерку понятия, как походка, туше (на фортепиано), тембр голоса, выговор или акцент речи и т. п.
Ко всем этим случаям применимо то же разграничение: существенное сходство (т. е. равенство) по одной части имеющихся признаков при отсутствии конгруэнтности и размещаемость по другой, обычно метрической, части признаков в вариационные ряды. Сюда же принадлежит узнавание конфигураций, прежде всего букв, во всех размерах, шрифтах и т. д. (любопытно, что одинаково легко — белых на черном и черных на белом фоне), узнавание человека в лицо при шести степенях свободы проективных изменений его изображения на сетчатке, узнавание в данном экземпляре животного представителя того или иного вида или класса и т. д. Несколько последних примеров относится к тому, что психологи давно обозначили термином «обобщение». Но этим еще не объяснены не механизмы этого процесса (относящегося, несомненно, к категории процессов мозгового моделирования), ни, главное, те принципы, которыми руководствуется мозг при разбивке признаков объекта по обеим контрастирующим группам.
Представляются очень перспективными использование и дальнейшая разработка математической идеи, выдвинутой И. М. Гельфандом и М. Л. Цетлиным и заключающейся в приложении к разбираемым здесь вопросам класса функций большого количества переменных, обозначаемых авторами как «хорошо организованные функции»11. Функция хорошо организована, если, во-первых, можно разгруппировать ее аргументы на «существенные» и «несущественные» переменные и если, во-вторых, все аргументы стойко сохраняют свою принадлежность к тому или другому подклассу. Авторы не дают строгого определения обоих классов, ограничиваясь выразительной характеристикой: несущественные переменные могут обусловливать резкие изменения и скачки функции, крутые градиенты значений и т. д. В то же время они, оправдывая данное им название, не оказывают определяющего действия на протекание функции в целом и на больших интервалах, на расположение экстремумов и т. д.
Влияние существенных переменных на небольших интервалах может в значительной степени маскироваться вмешательством сильно вариативного эффекта несущественных переменных, но в итоговом результате форма и протекание функции определяются прежде всего существенными переменными. По-видимому, принадлежность аргументов к тому или другому подклассу определяется не столько тем, какой конкретный физико-химический или иной процесс лежит в основе каждого из них, сколько самой формой функциональной связи с описываемой функцией, в которой находится с нею данный аргумент.
Чрезвычайно заманчиво обратиться к описанному классу функций, представив каждую сторону развития и жизнедеятельности живых организмов посредством такой функции многих переменных, где тот и другой их подкласс прямо накладываются на поведение соответственно существенных и несущественных признаков, как они были подразделены выше. Тогда, например, применительно к морфогенезу того или иного листа, цветка и т. п. можно будет сказать, что определяющие видовые, явно закодированные в хромосомах черты реализуются как продукт существенных (в смысле Гельфанда — Цетлина) переменных, а метрические признаки, дающие каждый вариационные ряды, — как результат влияния несущественных переменных. То же было бы уместно по отношению к координации движений, например к циклическим навыковым актам типа письма, о разгруппировке характеристик которых уже говорилось выше. То, что совершенно аналогичная организация определяющих переменных имеет место в актах восприятия, прежде всего в восприятии формы, а далее и во всевозможных актах обобщения, указывает на то, что и мозговому активному моделированию в процессах восприятия и отражения мира свойственна опять-таки природа этих замечательных функций.
Уже первые попытки приложения этих функций к изображению механизмов жизнедеятельности позволяют прибавить важные и перспективные черты к их имеющейся характеристике. Выше уже отмечалось, как по-разному относится организм к воздействию на него окружающей среды по линиям его существенных и несущественных переменных. По линии последних он реактивен и, так сказать, «уступчиво» приспособителен: один лист дерева получает больше питания, чем другой, и вырастает крупнее; он находится в лучших условиях освещения, в нем вырабатывается более высокая концентрация хлорофилла и т. п.
Но организм не уступает без применения к нему очень глубокого насилия каких-либо существенных свойств структуры и формы (вроде тех, которые, например, определяют диаграмму цветка). Не отступает он и от отрицательного геотропизма, т. е. от борьбы при всех условиях за вертикальное направление ствола или стебля. Таким образом, можно сказать, что организм реактивен по отношению к своим несущественным переменным, но в высокой степени нереактивен или активен по отношению к существенным.
Совершенно ту же картину дает структурный анализ двигательных актов и их координации. Как показали в свое время наши исследования, координационное управление каждым целостным смысловым двигательным актом строится, как уже упоминалось выше, по типу иерархической многоярусной системы колец управления и корригирования. Необходимость такой многоэтажности вызывается как весьма большим количеством степеней свободы у наших многозвенных органов движения, так и огромным числом мышечных единиц, активно участвующих в обеспечении позы и выполнении требуемого телодвижения.
К этому нужно еще добавить привходящие факты упругой растяжимости мышц и сложной реактивной динамики органов движения и затем, конечно, всю совокупность тех неподвластных, а поэтому и непредусмотримых внешних сил сопротивления, целесообразное преодоление которых и составляет самую сущность огромного большинства наших произвольных двигательных актов. В процессе координационного управления движением многочисленные виды и качества кольцевых коррекций распределяются между уровневыми системами мозга, с одной стороны, сообразно составам и качествам присущих им сенсорных синтезов, с другой — явно по смысловому удельному весу и значимости тех или других коррекций для полноценной реализации программы движения.
Строгая стандартность формы и метрики циклических навыковых движений никогда не реализуется сама собой и никогда не бывает самоцелью12. Ее приходится специально вырабатывать, и мозг идет на это только в тех случаях или в тех деталях или звеньях двигательного акта, где такая стандартность существенно необходима. Отсюда и получается та метрическая вариативность движений, о которой было уже сказано выше. Но с обсуждаемой здесь точки зрения обращает на себя внимание то, что «низовые» коррекции, т. е. коррекции чисто технического характера и второстепенного смыслового значения: 1) наблюдаются в тех деталях и сторонах движения, где имеет место наибольшая вариативность, 2) носят ясно выраженный реактивный характер.
Можно сказать, что аппарат управления движениями проявляет две различные координационные тактики: по отношению к второстепенным и техническим рассогласованиям и помехам он действует реактивно-приспособительно, не боясь вариативности, по отношению же к программно существенным сторонам управления бьется за требуемый результат во что бы то ни стало, активно преодолевая препятствия и, если нужно, перепрограммируясь на ходу.
Другого назревающего в настоящее время вопроса, также тесно связанного с областью «хорошо организованных» функций Гельфанда — Цетлина, коснемся здесь лишь кратко. Это вопрос о взаимоотношениях биологических систем с понятием или классом дискретного числа. Те признаки, аргументы, коррекционные функции и т. д., которые принадлежат к разряду «несущественных», явно континуальны и образуют соответствующие этому вариационные ряды. А как обстоит дело с существенными переменными? В частности, допустимо ли поставить по отношению к наследственно передаваемым, закодированным в хромосомах чертам вопрос: до каких пределов «умеет» обсуждаемый аппарат считать?
Этот вопрос звучит в настоящее время в самых разнообразных работах. Судя, например, по анатомическим и сравнительно-анатомическим данным, такой уверенный «счет» продолжается примерно до двух в шестой степени (число зубов, позвонков, цитоархитектонических полей мозга, элементов боковой линии рыбы и т. д.). Безусловно немыслимо, чтобы в генном аппарате было закодировано, например, число волос на голове или число клеток в коре головного мозга.
Принципиально наибольший интерес представляют, несомненно, пограничные области числового ряда. Цито- и миелоархитектонические поля коры мозга человека «исчислены» и стандартны. Но до каких пределов простирается эта исчисленность и с какого момента начинается рандомизация числа клеток и плана их синаптических взаимосвязей? Исчислены или рандомны количества гломерул в почке, лангергансовых островков, пачиниевых телец, мышечных единиц в той или другой мышце? Как ведет себя аппарат наследственной передачи, когда дело доходит до чисел порядка сотен, т. е. где граница его информационной емкости?
С точки зрения обсуждаемой здесь темы важно следующее. Информоемкость генного аппарата, разумеется, не наложена на него как-либо извне, а выражает собой эволюционно определившуюся необходимость данного вида животного, растения, клетки и т. д. Поэтому анализ названных пограничных отношений в области перехода от необходимого к случайному есть в то же время анализ того распределения между существенными и несущественными аргументами, который соответствует эволюционно определившейся потребности организма. В то же время это анализ того, где и как проводится организмом граница между активными и реактивными процессами, числом и множественностью (счетной или континуальной), наконец, между областями приложения теории хорошо организованных функций и теории случайных процессов.
В заключение нужно остановиться еще на одном принципиально важном вопросе.
С самого зарождения научной кибернетики, как только выяснилась близость между назревшими ключевыми проблемами физиологии и теми задачами, которые обусловили выделение кибернетики в самостоятельную науку, началось взаимное оплодотворение обеих наук в отношении фактических данных и теоретических формулировок и обобщений. Весь период, протекший от публикации первого труда Wiener до наших дней, пронизан поиском и использованием аналогий между живыми и искусственными системами — аналогий, помогавшим физиологам в осмыслении системных взаимных отношений в организме, а техникам — дававших в руки новые и ценные идеи по построению автоматов.
Независимо от того, окончился или нет этот «медовый месяц» выявления и практического применения аналогий и сходств, в литературе самого последнего времени начинают все чаще проскальзывать и вопросы противоположного направления: существует ли все-таки принципиальная разница между живыми и неживыми системами и если существует, то где пролегает граница между теми и другими?
Разумеется, речь идет не о тривиальных различиях, вроде различий стройматериала или количественных различиях, делающих для современной техники немыслимым подражание 15 млрд клеток головного мозга. В то же время неоспоримо, что искомое различие должно при всех условиях формулироваться на основе строгого материалистического единства законов, которым в одинаковой степени подчинена как живая, так и неживая материя.
Становится чрезвычайно правдоподобным представление, что искомый водораздел или прямо заключается в общебиологическом принципе активности, или, во всяком случае, включает этот принцип как важнейшую составную часть. Это суждение может подкрепляться тем, что как раз активные формы морфогенеза, развития индивидуального поведения, прогностики будущего и т. д. всего недоступнее для моделирования, хотя бы мысленного. Оно может подкрепляться также и той всеобщностью, с которой этот принцип направленной, преодолевающей активности проявляется во всех формах жизнедеятельности.
Однако, прежде чем решиться выдвинуть описанную концепцию биологической активности в качестве рабочей гипотезы, необходимо ответить, пусть даже пока в самых общих чертах, на вопрос, допустимо ли говорить о какой-либо глубокой специфике процессов жизни, не сходя со строго материалистических позиций и не соскальзывая при этом на рельсы одной из форм витализма, хотя бы и замаскированного.
Начиная с XVIII в., когда впервые твердо определил свои научные позиции воинствующий механистический материализм, перед естествознанием встала альтернатива, казавшаяся в ту пору (и в течение долгого времени позже) неизбежной. С одной стороны, контраст между проявлениями жизнедеятельности и теми процессами, которые тогда были известны в неживой природе, был настолько разителен, что было необходимо искать для него объяснений и обоснований. С другой же стороны, инвентарь знаний о глубинных физико-химических процессах, а тем более биофизических и биохимических закономерностях на молекулярном уровне был еще крайне скудным. Поэтому получалось так: те, кто отходил в лагерь идеализма и легко допускал идеи о всякого рода нематериальных факторах и сущностях, не находя в багаже физико-химических знаний ничего пригодного для объяснений специфики жизни, выдвигали для этого объяснения нематериальную жизненную силу, что их вполне устраивало. Последовательным же материалистам не оставалось ничего иного, как вообще отвергнуть всякие поиски жизненной специфики, поскольку физика и химия того периода ничего не могли подсказать.
Это традиционное представление о неправомерности самой постановки вопроса относительно специфичности жизненных процессов в строго материальном плане и истолковании сохраняется и до нашего времени, когда выяснилось и скопилось огромное количество новых сведений и фактов. Между тем эти новые факты позволяют рассматривать многие процессы (в первую очередь на клеточном и молекулярном уровнях) так, как немыслимо было и думать в предшествующем столетии. Они же дают возможность поставить на очередь вопрос о пересмотре традиционного взгляда. Ни рамки настоящего сообщения, ни компетенция автора не позволяют предпринять сколько-нибудь подробное освещение вопроса, но следует хотя бы показать, о чем здесь может идти речь.
Прежде всего в прошлом имелись только самые зачаточные сведения о ферментных процессах. Сейчас выясняются все более широкие границы для этих процессов. Выясняются роль ферментов в направляемом синтезе высокомолекулярных соединений и редупликации этих соединений, гигантское разнообразие и своеобразие хемоавтотрофных микроорганизмов, при участии которых интенсивно осуществляются процессы, которые в лабораторных условиях потребовали бы огромных температур и давлений, и т. д.
В прошедшем столетии не было ничего известно о стохастических процессах (если не считать кинетической теории газов и растворов). По линии второго закона термодинамики были известны и изучены такие явления в области микромасштабов, как флюктуации (М. Смолуховский), броуновское движение (А. Эйнштен) и т. п. Однако все еще нельзя было ничего сказать об антиэнтропических процессах в открытых системах, условиях их протекания и управляемости, в то время как сейчас каждый год прибавляет в этом направлении новые факты.
О биологических кодах и их роли в структурировании и самоорганизации было уже сказано выше. Мы не будем продолжать этого перечисления. Его целью было лишь показать, что к нашему времени накоплены обширные системы новых фактов. Среди них исследовательская мысль без всякой опасности впасть в идеализм, лишь твердо памятуя о диалектическом принципе перехода количества в новые качества, несомненно, найдет точки опоры для того, чтобы применить вновь узнанные закономерности биохимии, биофизики и новых ветвей математики к безоговорочно материалистическому описанию специфических проявлений жизни.
Значительно легче отпарировать возражение о том, что, ставя на место рефлекторной дуги (где реакция закономерно отвечает на стимул) замкнутое рефлекторное кольцо, которое может начать функционировать с любого пункта своей блок-схемы, мы — сторонники физиологии активности — отходим от детерминизма и вместе с тем от той ясной материалистической трактовки явлений, которая обеспечивается рефлекторной теорией и признанием за рефлексом роли основного строительного элемента жизни и поведения.
Как уже отмечалось выше, «рефлекс по схеме дуги» — лишь приближенно описанный процесс, который самим накоплением фактов о регуляции и координации должен был претерпеть замену его схемы более точной и верной схемой кольцевого, непрерывного процесса. Далее выяснилось, что все рецепторные процессы протекают активно, начинаясь с отбора и поиска информации и сопровождаясь процессами настройки, прослеживания, гаптики и т. д. Соответственно этому и процесс образования и закрепления условной связи между афферентными сигналами пришлось рассматривать не как пассивное запечатление, требующее повторений для лучшего повторения связи, а как ряд активных процессов: 1) вычленения прививаемого условного стимула из всего афферентного потока извне; 2) установления мозгом животного апостериорной вероятности предъявляемого сочетания; 3) закрепления ассоциации в «долговременной памяти» мозга и т. д.
После всех этих неизбежных уточнений стало все более и более ясно, что рефлекс, т. е. детерминированная кольцевая реакция, вызванная воздействием раздражителя, бесспорно, есть реально существующая и наблюдающаяся в разнообразнейших видах форма проявления жизнедеятельности. Но эта форма явно не единственная. Во всяком случае, она не оставляет возможности конструировать из рефлексов сложные формы активного поведения.
Конечно, форма поведения реактивного автомата более явственно детерминистична, чем поведение организма, все время вынуждаемого к срочному активному выбору в стохастических условиях. Но освобождение организма от роли реактивного автомата, существующего «на поводу» падающих на него раздражений, ни в какой мере не означает отхода от научного детерминизма в широком смысле в область непознаваемого, так же как переход от описания явления через однозначные функции к его описанию с помощью теории вероятностей не может означать ухода с позиций строгого естествознания.
Наука нашего времени накопила более чем достаточно фактов и знаний, чтобы безбоязненно приступить к созданию нового, углубленного представления вместо того первого приближения, которое оставили нам в наследство корифеи науки классического периода. Теперь необходимо, твердо и неукоснительно придерживаясь принципа единства мира и его законов, указать и изучить тот водораздел, который пока совершенно не переходим для технической или моделирующей мысли, но который в то же время совершенно четко отражает собой то, в чем заключается разница между живыми и искусственными системами. Можно предполагать, что обсуждаемые здесь черты и свойства физиологии активности смогут вылиться в дальнейшем в какую-то существенную сторону или часть искомой характеристики. Это, во всяком случае облегчит путь технических изобретательских изысканий того, как приблизиться к преодолению водораздела между биологическими и техническими науками.
1 Очерк был опубликован в книге: Философские вопросы высшей нервной деятельности. — М.: Наука, 1963.
2 Термин «рефлекторное кольцо» предложен, по-видимому, впервые автором (см.: Основы физиологии труда. — М.: Биомедгиз, 1934. — С. 447 и др.).
3 Термин «обратная афферентация», предложенный П. К. Анохиным, малоудачен, так как никакой «необратной» афферентации (нецентростремительного направления) вообще не существует.
4 См. очерк 8-й.
5 См. очерк 11-й.
6 Группа так называемых ориентировочных реакций (конечно, не рефлексов!) представляет собой класс реакций на расхождение или рассогласование фактической рецепции с текущим вероятностным прогнозом и активной оценки значимости неожидавшегося сигнала.
7 Бернштейн Н. А. О построении движений. — М.: Медгиз, 1947. — С. 183; Бернштейн Н. А. Очередные проблемы физиологии активности // Пробл. кибернетики. — 1961. — Вып. 6. — С. 101.
8 Гельфанд И. М. О тактиках управления сложными системами в связи с физиологией / И. М. Гельфанд, В. С. Гурфинкель, М. Л. Цетлин // Биологические аспекты кибернетики. — М., 1962. — С. 67; Варшавский В. И. Обучение стохастических автоматов / В. И. Варшавский, И. П. Воронцова, М. Л. Цетлин // Биологические аспекты кибернетики. — М., 1962. — С. 192.
9 Совершенно универсальной определяющей чертой этого второго свойства организмов является то, что на каждом этапе и в каждый момент совершающегося развития и связанных с ним перестроечных скачков организм сохраняет во всей потребной мере жизне- и дееспособность, чего не может еще дать ни одна модель или машина.
10 Такое уравновешивание обрекало бы каждую особь на полную зависимость от среды и ее изменений, и о программном морфогенезе с удержанием стойких признаков вида нельзя было бы и думать.
11 Гельфанд И. М. О некоторых способах управления сложными системами / И. М. Гельфанд, М. Л. Цетлин // Успехи математических наук. — 1962. — Т. 17. — Вып. 1.
12 Бернштейн Н. А. О построении движений. Очередные проблемы физиологии активности // Пробл. кибернетики. — 1961. — Вып. 6. — С. 101—160.