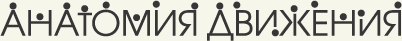ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В собранных здесь очерках обрисован один из тех путей, которые привели научную мысль текущего момента к нащупыванию и формулированию новых перспективных линий развитии физиологии, а может быть, и всей биологии в целом. В переживаемый нами процесс бурно совершающегося перелома взглядов и концепций, затрагивающий во многих отношениях самые глубинные методологические проблемы и связанный с принципиальным пересмотром многого обветшавшего и отжившего, вносит свой неоспоримый вклад и физиология двигательной активности.
Не безболезненно протекал и протекает на наших глазах этот перелом во взглядах и перемещение центров тяжести научной значимости, свидетелями и участниками которых мы являемся. Новое воспринимается с трудом и в борьбе, как это всегда бывало в истории эволюции научных идей и концепций. Подобные переломы уже не раз переживались естествознанием, позволяя той или иной ветви его подняться на новую более высокую ступень. Формы, которые они принимали при этом, бывали очень различными в зависимости от многих привходящих условий.
Можно образно сказать, что каждая теория проходит в своей эволюции через три возраста. В молодости теория объединяет и подытоживает факты, которые накопились к моменту ее рождения. Она создает логический порядок в хаосе этих фактов, как бы ферментирует его подобно тому, как это делают с пищевой массой ферменты пищеварительного аппарата, и этим способствует его усвояемости нашими органами мышления. Подобную молодость, по-видимому, в фазе самой ранней юности, переживает на наших глазах, например, теория элементарных частиц.
Затем наступает зрелость теории. Это возраст предвидений и предсказаний. Зрелая теория предусматривает факты, еще не открытые прямым наблюдением, выводя их как прямые логические следствия из основной моделирующей концепции и направляя этим ход экспериментальных исканий. В этой фазе зрелости теории экспериментатор, организуя постановку опыта, нередко знает, что он ищет, и добивается не только обнаружения неизвестных фактов, сколько доказательного выявления фактов, уже предсказанных теорией. Так было, например, с Г. Герцем, уверенно добивавшимся получения электромагнитных волн, или с П. Н. Лебедевым, столь же уверенно искавшим средства показать въявь существование светового давления. Оба исследователя с самого начала не сомневались в реальности тех явлений, которые они стремились доказать опытным путем.
Прожив более или менее долго, теория неизбежно начинает стареть. Пережившая свой период расцвета и дряхлеющая теория может разрушиться и выйти из строя прежде всего в том случае, когда она вступит в непримиримое противоречие с потоком новых фактов и отношений, выявляющихся в экспериментах. Иногда причиной назревшей необходимости смены теории является постепенное накопление данных, не укладывающихся в ее рамки, иногда это бывает единственный факт или феномен, поражающий ее в самое сердце. Бывает и так, что науке приходится долго дожидаться момента, пока на поле битвы появится гениальный прозорливец, который сумеет найти и сформулировать свежую, мощную концепцию, убивающую прежние взгляды уже одним фактом своего неоспоримого преимущества перед ними.
Так было, например, с крушением беспринципной, сложной и ничего не объясняющей астрономической системы Птолемея (вместе с компромиссным вариантом ее, предложенным Тихо де Браге), которая не смогла выстоять против ясной и убедительной модели Коперника и Кеплера. То же двумя столетиями позже случилось с теорией флогистона, или теплорода: открытия, сделанные М. В. Ломоносовым и Лавуазье, а за ними — открытие кислорода, приведшее к правильному истолкованию процессов горения, быстро и неоспоримо выявили всю абсурдность концепции флогистона с отрицательным весом. Наконец, такое же бесповоротное крушение испытали уже на рубеже текущего столетия концепции ньютоновских абсолютных пространства и времени, которые не смогли выдержать конкуренции ни с новыми опытными данными, ни, главное, с гениальными обобщениями Эйнштейна.
В других случаях смена естественнонаучных теорий совершается не столь революционно, как в приведенных выше примерах. В этой категории случаев замена старой теории происходит не потому, что вскрылась ее ошибочность или неправомерность. Приходящая на смену молодая концепция берет над ней верх либо потому, что ей оказывается под силу обобщить гораздо более широкий круг явлений, чем прежде, либо благодаря тому, что она оказывается обладающей гораздо большей эвристической силой. Ярким примером такой теории является теория электромагнитного поля, созданная Максвеллом на основе обобщения открытий Эрстеда и Фарадея. Появление этой теории — знаменитых максвелловых уравнений — позволило охватить единой формулировкой такие разделы физики, которые до этого трактовались как совершенно разные между собой области. Теория Максвелла смогла разом обозреть, как с птичьего полета, и учение о свете, и теорию лучистой теплоты, и электромагнитную индукцию и прямо привела к предсказанию волн, открытых Герцем и положенных А. Поповым в основу радиотехники.
Не менее выразительный пример сказанного дает создание кинетической теории газов и растворов, которая также ничего не опровергла и никого не уличила в ошибках, но открыла такие широкие пути к предсказанию и обнаружению новых закономерностей, которые и не мыслились до ее появления.
Тот перелом, который в наши дни переживает биология со всем кругом входящих в нее наук о живой природе, явственно принадлежит также к этой последней категории переосмышления прежних понятий. Самая выразительная черта этого переломного процесса — в непрерывно возрастающем на наших глазах богатстве обобщений, прямо наводящих исследователя на новые эксперименты и поиски. Наряду с этим тот же процесс рождает новые понятия, термины, формулировки, становящиеся на службу науке в роли более совершенных, сильных и строгих орудий научного прогресса. Виднейшее место среди этих новых орудий занимает кибернетика.
Каждая наука перерастает стадию первоначального эмпиризма и становится наукой в точном смысле слова в тот момент, когда она оказывается в состоянии применить к каждому явлению в своей области два определяющих вопроса: 1) как происходит явление и 2) почему оно происходит. Первый вопрос побуждает к поискам сначала качественных описаний, а затем и количественных характеристик явлений. Второй вопрос требует постановки всех суждений об этих явлениях на почву строгой причинности и ведет к формулированию законов протекания и зависимости этих явлений, тоже вначале качественно описательных, а в дальнейшем облеченных в строгие формы математических моделей установленной причиной зависимости.
Для всех наук, достигших теоретической зрелости, характеристика изучаемых ими процессов оказалась целиком умещающейся в ответы на два вышеуказанных вопроса. Для наук о неживой природе эти два кардинальных вопроса во всяком случае оказались и необходимыми и достаточными.
Биологические науки в лице своих самых сильных вождей и методологов точно так же стремились подчинить изучаемые ими явления тем же двум кардинальным вопросам. По линии вопроса «как», несмотря на всю сложность и трудность точных количественных описаний явлений жизни, неуклонно прогрессировали и техника наблюдений, и совершенство измерительных приборов. По линии причинности, заключающейся в вопросе «почему», трудности были еще намного более значительными, хотя и здесь непрерывно обогащался фонд формулировок, выявлявших причинные отношения между явлениями, правда, в большинстве случаев в качественной, описательной форме.
Но чем далее, тем отчетливее в науках биологического цикла стала проступать одна поразительная черта. При каждой попытке формулирования причинного закона явлений либо никак не удавалось перевести такой закон в математически строгую форму, либо нельзя было не почувствовать, что в нем не хватает чего-то весьма существенного, может быть, даже решающего. До недавнего времени эта упорная неподатливость к теоретизации и математическому моделированию не находила для себя объяснений. Ссылка на обилие привходящих переменных, на неповторимость экспериментов при строго соблюденных ceteris paribus, на сложность причинно-следственных отношений в живых системах и т. п. была явно не принципиальной, как и вообще всякие попытки не выходить за пределы категорий количества там, где необходимо признание и учет новых качеств. То что по всем признакам казалось уже выявившимся законом (в физиологии, психологии, и т. п.), оказывалось по большей части крайне бедным предсказательной силой и потому рано или поздно приводило с неизбежностью в теоретический тупик. Самый же грозный критерий годности концепции — ее проверка через практику — в очень высоком проценте случаев приводил к выводу, что с законом здесь что-то не в порядке.
Многочисленные наблюдения и факты во всех областях биологии уже давно указывали на неоспоримую целесообразность устройств и процессов, присущих живым организмам. Эта целесообразность прямо бросалась в глаза как резкое, может быть, даже решающее отличие живых систем от каких бы то ни было объектов неживой природы. Неминуемо возникал вопрос: для чего существует то или иное приспособление в организме, к какой цели оно направлено, какую доступную наблюдению задачу оно предназначено решать. И все отчетливее стала откристаллизовываться мысль: а не потому ли и постигает биолога неудача или неудовлетворенность при попытке выяснения вставшей перед ним закономерности, что в применении к биологическим объектам к вопросам «как» и «почему», исчерпывающе достаточным в физике или химии, необходимо добавить еще третий равноправный с ним вопрос «для чего»?
Как я попытался показать в последнем из очерков этой книги, только биологической кибернетике оказалось под силу отвести как фикцию то, что отпугивало механицистов прошлого века своей видимостью идеалистического финализма и телеологизма. Допустимо ли считать, что цель действия — нечто такое, что должно осуществиться только после этого действия в будущем времени, может являться причиной наступления этого действия? Причина позднее, чем ее следствие?! И только введенные биокибернетикой понятия кода и кодированной предвосхищающей модели будущего указали на безупречно материалистический выход из этого кажущегося тупика.
В некоторых случаях, как я попытался показать в другом месте1, биологам удавалось путем поистине гениального хода мысли обосновывать и объяснять закономерности тех или иных жизненных явлений, не выходя за пределы вопросов «как» и «почему». Это смог, например, сделать Дарвин с помощью созданной им концепции «переживания приспособленнейших»: построенная им на этой концепции стохастическая модель автоматически протекающего отбора носителей случайных наследуемых положительных мутаций действительно позволяла показать, не переступая границ строгого закона механической причинности, как совершаются возникновение и отбор целесообразных усовершенствований у организмов. Однако нельзя не заметить, что, во-первых, среди необозримого круга биологических проблем построения, подобные упомянутой дарвиновой модели, оказывались скорее нечастым исключением, нежели общим правилом, во-вторых, и в самой системе дарвинизма стали чем дальше, тем больше проступать и накапливаться «белые пятна» нерешенных вопросов, неясностей и прямых необъяснимостей.
Уточняя, нужно указать, что дарвиновский стохастический механизм переживания (survival) работает во всех случаях как универсальный контрольный или визирующий инструмент эволюционного процесса. В этом состоит и этим исчерпывается его роль. Чем бы, в конечном счете, ни обусловливались наследуемые и накапливаемые мутации, этот механизм автоматически выводит из игры все неконкурентоспособные формы, пропуская беспрепятственно в жизнь формы, доказавшие свою жизнестойкость.
Важно подчеркнуть, что дарвиновский survival никогда не является целью активного устремления организмов, представляя собой только итоговый результат последнего. Организм не борется за жизнь (для Дарвина его «struggle for existence», по-видимому, всегда оставалось только образным выражением стохастического конкурентного процесса), и выживание нигде не служит задачей, разрешения которой он добивается. В связи с этим механизм survival не может обладать творческой силой для негэнтропического развития каких бы то ни было органических форм выше, разве лишь одноклеточных. В этом смысле он в своем роде так же бессилен, как демон Максвелла — для активного понижения энтропии в газовой смеси.
О какой же цели активности живых организмов можно говорить в таком случае, если такой целью не является выживание во что бы то ни стало? И правомерно ли вообще экстраполировать понятие цели за пределы психологии — единственной области, где оно формулируемо с полной отчетливостью? Думается, что по крайней мере частично можно уже придать этому понятию четкий биологический смысл, а на остающиеся вопросы ответить более или менее правдоподобной гипотезой.
Допустим для начала, что в структурах некоторого множества организмов заложена динамика устремления к очень широкому кругу направленных изменений у разных индивидов. Прежде всего автоматический отсев survival устранит всех индивидов — обладателей «летальных целей» (программ), ведущих к их гибели. Далее, тот же контрольный автоматизм будет поощрять те организмы, у которых имеется и работает ноцицептивный, штрафующий и предостерегающий аппарат. Этих двух условий уже достаточно для обеспечения и ограждения созидательного устремления организмов к любому целевому результату, в чем бы последний не заключался. С этого пункта можно пока идти дальше только гипотетически, но правдоподобнее других представляется следующая гипотеза.
Все наблюдения над становлением организма как в эмбрио- и онтогенезе, так и на филогенетической лестнице и все те факты, которые говорят об активной динамике борьбы организма за осуществление «существенных переменных» действия, обрисованных в нашем последнем очерке, показывают, что организм в развитии и действиях стремится к максимуму негэнтропии, еще совместимому для него с жизнеустойчивостью. Такая формулировка биологической «цели» имеет по крайней мере то достоинство, что не требует никакой психологизации и может быть целиком выведена из свойств соответственно высокоорганизованных органических молекул на какой-то ступени их прогрессивного усложнения. В этом смысле активность организма биофизически есть борьба за негэнтропию2.
Уточняя для последующего изложения нашу терминологию, скажем, что цель, понимаемая как закодированная в мозгу модель потребного организму будущего, обусловливает процессы, которые следует объединить в понятии целеустремленности. Последняя включает в себя всю мотивацию борьбы организма за достижение цели и ведет к развитию и закреплению целесообразных механизмов ее реализации. А вся динамика целеустремленной борьбы посредством целесообразных механизмов3 есть комплекс, который правильнее всего объединить термином активность.
Активность — важнейшая черта всех живых систем, функционирующих на базисе трех вышеназванных кардинальных вопросов, стала уясняться позже других, несмотря на то, что, по-видимому, именно она является самой главной и определяющей. Последнее утверждение подкрепляется и тем, что активность выступает как наиболее общая всеохватывающая характеристика живых организмов и систем, и еще более тем, что постановка понятия активности в качестве отправной точки ведет к наиболее далеко идущему и глубокому переосмыслению тех физиологических понятий, которые отживают и уходят в прошлое вместе со всей платформой старого механистического материализма.
Что в наибольшей мере характеризует собой активную целеустремленность организма? Организм все время находится в соприкосновении и взаимодействии с внешней и внутренней средой. Если его движение (в самом обобщенном смысле слова) имеет одинаковое направление с движением среды, то оно осуществляется гладко и бесконфликтно. Но если запрограммированное им движение к определившейся цели требует преодолевания сопротивления среды, организм со всей доступной ему щедростью отпускает на это преодолевание энергию в негэнтропической форме, пока он либо восторжествует над средой, либо погибнет в борьбе с ней. Среда, как все неживые совокупности, согласно второму принципу термодинамики, всегда движется в направлении возрастания энтропии; организм и в своем онтогенетическом формировании и во всех проявлениях активности по ходу жизни движется негэнтропически, добиваясь и достигая понижения уровня энтропии в самом себе и оплачивая этот эффект ценой метаболического возрастания энтропии в своем окружении за счет окисления и разрушения веществ — участников энергетического метаболизма.
В этом пункте, по-видимому, еще проявляет себя характерное различие между живыми и неживыми (хотя бы и самоуправляющимися) системами. В искусственных системах с авторегуляцией на обратных связях сигналы о рассогласованиях и нарушениях программного режима управляют величиной вводимой в систему энергии. Чем больше возрастает рассогласование, тем интенсивнее и щедрее совершается подача энергии для его преодоления. Налицо как будто явное сходство с тем, что было только что высказано о взаимоотношениях организма и среды. Но глубочайшая и принципиальная разница состоит в том, что «щедрость» отпуска относится в сегодняшних искусственных системах саморегуляции к количеству выдаваемой энергии, тогда как в активности живых организмов она же относится к отрицательной энтропии. Преобладающее большинство акций живого организма негэнтропично как по содержанию запрограммированной им активности, так и по реализации этого содержания.
Принятие в качестве отправного пункта принципа биологической и физиологической активности со всем связанным с нею кругом идей и представлений позволяет выдвинуть против воззрений старой рефлекторной теории последний и, возможно, решающий аргумент.
Рефлекс по схеме дуги импонировал физиологам предшествующего периода более всего тем, как четко он увязывался с классическими понятиями причины и следствия. В самом деле, рефлекс (безусловный и условный) есть настоящая модель закона причинности в самой строгой форме. Раздражение, передаваемое по афферентной полудуге, — причина, реакция и ее путь от центров до исполнительного органа — ее детерминированное следствие. Здесь наука, по-видимому, снова сталкивалась с классом явлений, целиком укладывающихся в рамки вопросов «как» и «почему», и поэтому особенно ценимых учеными классического периода за создаваемую ими возможность обходить методологически опасные для механистического мышления пути.
Всмотримся, однако, несколько более пристально. Стимул есть бесспорная причина появления ответного феномена рефлекса, но говорит ли он что-нибудь о генезе и значении этого рефлекса? Чем обусловливается то, что на данную стимуляцию организм отвечает именно так, а не иначе? Если речь идет о врожденном, безусловном рефлексе, то ясно, что данная форма реакции выработалась по ходу эволюции постольку, поскольку она отвечала определенной потребности организмов данного вида, защитной или преодолевающей. Таким образом, здесь неминуемо всплывает вопрос «для чего», и попытка рефлекторной теории обойти этот вопрос с помощью механистической причинности оказывается призрачной. Еще выпуклее выявляется решающая необходимость привлечения к делу вопроса «для чего» в отношении рефлексов условных, индивидуально вырабатываемых. Если в лабораторной обстановке и удается (нередко ценой упорного труда) воспитать у животного ту или иную явно бесполезную для него форму реагирования, то в естественных условиях каждая прижизненно вырабатываемая им реакция создается всегда как прямой ответ на вопрос, какой потребности индивида она соответствует, для чего она ему нужна. Если вспомнить еще (см. очерк XI), в каком большом числе случаев раздражение, зачинающее рефлекс, снижается по сути до значения пускового стимула, включающего реакцию, но в очень малой мере заслуживающего того, чтобы быть признанным за ее смысловую причину, и как раз в действиях с наибольшей смысловой нагрузкой играющего наименьшую роль (часто вплоть до полной ненужности), — то мы убедимся, что для правильного осмышления любого рефлекса или вида реакции привлечение к делу вопроса «для чего» не только необходимо и неизбежно, но по своей биологической важности выдвигает этот вопрос на первое место.
Жизнедеятельность каждого организма есть не уравновешивание его со средой и с падающим на него с ее стороны потоком стимулирующих воздействий (как думали И. П. Павлов и его последователи), а активное преодоление среды, определяемое уже обрисованной ранее моделью потребного ему будущего.
Мне остается еще остановиться в кратких чертах на тех стоящих на очереди задачах исследования, которые непосредственно связаны с изучением и математическим моделированием обеих основных категорий переменных в их участии и взаимодействии по управлению двигательными актами. Однако предварительно необходимо хотя бы бегло подытожить тот вред, который был принесен теории и практике упорным удерживанием позиций рефлекторной дуги в том периоде, когда они уже явно утратили свою былую прогрессивность, все более становясь к нашему времени тормозом для плодотворного развития физиологической науки.
Рефлекторная теория после прославленных открытий, совершенных И. П. Павловым в начале нашего века и принесших ему заслуженное мировое признание, действительно подняла учение о высшей нервной деятельности на новую прогрессивную и вначале высоко эвристическую ступень. И несмотря на то что теория условных рефлексов оказалась менее близкой к объективной физиологии головного мозга, чем это представлялось первоначально4, и что в начальном периоде увлечения ей доводилось впадать и в серьезные методологические ошибки вроде рефлекса рабства, рефлекса свободы или испробованной и вскоре же отвергнутой «башни молчания», основывавшейся на идее арифметической вычитаемости раздражений (совершенно аналогичной с идеей суммируемости рефлексов в действия)5, несмотря на эти уклоны, вполне естественные для живой, становящейся концепции, прогрессивность рефлекторной теории оставалась неоспоримой в течение многих лет, до того времени, когда ей пришлось испытать то неизбежное старение, о котором в общих чертах говорилось в начале этого заключения.
Эпигоны учения И. П. Павлова резко и непростительно исказили облик выдающегося ученого мирового масштаба, превратив его теорию в догмат. Принятием этого догмата, всегда являвшегося тормозом в истории мировой науки начиная с аристотелизма, и в особенности превращением его в боевой стяг войны административными методами с инакомыслящими неудачливые преемники и продолжатели И. П. Павлова нанесли двоякий тяжелый урон отечественной науке. С одной стороны, настоятельное удерживание отживших уже позиций отомстило за себя тем, что по всем линиям практического приложения этих позиций к жизни завершилось неоспоримой неудачей — и в психиатрии, и в педагогике, и даже в языкознании (вторая сигнальная система и проблемы машинного перевода). С другой же стороны, этот образ действий принес с собой весь тот вред, который всегда сопровождал в науке переход от аргументации убеждением к аргументации силой. Это тривиально и не требует дальнейшей детализации. Sapienti sat!
В недавно опубликованной работе6, делая попытку выявить те классы математических отношений, которые прежде всего намечаются для моделирования и анализа жизненных проявлений, я выделил среди них в первую очередь два важнейших класса: 1) класс отображений или образов и 2) класс функций разброса. Третий столь же важный класс, охватывающий собой функции управления и регуляции у живых организмов, успел уже в отличие от двух первых вышеназванных получить большую и глубокую разработку в теориях автоматического регулирования, поведения конечных автоматов, так называемых игр с природой и т. п. Первому и второму классам пока еще посчастливилось меньше. Как легко вывести из определений этих классов, первый из них, класс отображений, самым тесным образом связан с процессами и результатами активного обобщения, т. е. в конечном счете с «существенными» переменными, как они были обрисованы выше. Второй, класс функций разброса, столь же отчетливо обнимает проблемы приспособительной вариативности и конкретной реализации процессов и действий, т. е. проблематику «несущественных» переменных.
К классу функций отображения мы должны отнести все виды математических функциональных отношений, выражающих собой проекции одним образом организованных множеств элементов на другие множества элементов, переорганизованные другим, но вполне определенным (хотя бы и стохастическим) способом. Легко представить себе, насколько обширна область, охватываемая функциями класса отображений в биологической проблематике, где в нее входят многочисленные жизненно важные отношения между организмом и той средой, в которую он погружен и внутри которой он действует. Кодированная информация, воспринимаемая организмом, на всех этапах ее следования через рецептор, афферентный путь с промежуточными ядрами и мозговые синаптические системы в высшие кортикальные аппараты мозга — это целая цепь явлений из обсуждаемого класса. Каждый синтетический афферентный процесс отображается (конечно, далеко не однозначно!) в ответном двигательном действии в широком смысле. Что всего важнее, в основе каждой обобщенной программы действия, как уже говорилось выше, лежат внутренние процессуальные системы отображения, которые я назвал «моделями настоящего и будущего».
Коды, запечатленные в молекулах ДНК и РНК, представляют собой биологические отображения процессов предстоящего развития и роста. Речь как психобиологическая и психо-социальная структура (с математическим языком включительно) есть опять-таки сложное, отнюдь не примитивно поэлементное отображение воспринимаемого мира и активности в нем субъекта. Важнейшей задачей для исследования является теперь анализ (уже не в частных многообразных случаях, а в самых общих и определяющих чертах) тех законов, которые властвуют в области биологических и физиологических отображений. Не задерживаясь более на характерных примерах, я остановлю внимание в немногих словах на той своеобразной разновидности отношений отображения, которая принадлежит исключительно к биологическому кругу явлений и уже неоднократно затрагивалась мной и в очерках настоящей книги, и в этом заключении. Я имею в виду соотношения между моделью или программой двигательного акта и вообще любого активного процесса, оформленной в виде «модели будущего», и фактическим осуществлением этого акта или процесса. Можно считать, что второе представляет собой своеобразное отображение первого — активную проекцию запрограммированного мозгового кода на действительность с соответствующей временной задержкой. Уже наперед можно сказать, что адекватные всем соотношениям этого класса математические орудия еще должны быть найдены. Зато попутно есть основание думать, что создание этих новых орудий математического выражения решит заодно и проблему перцептроники, пока ускользающую от строгого решения.
Глубокое своеобразие класса отображений в биологических объектах особенно хорошо оттеняется при рассмотрении второго из упомянутых здесь классов — класса функций разброса.
Весь отраженный и в настоящем сборнике длительный опыт нашего исследовательского коллектива по линии точного изучения различных двигательных актов человека выявил одну неизменно присущую всем им черту. Эта черта, особенно ясно проступающая в навыковых, многократно повторяемых двигательных актах, как, например, локомоторные движения, письмо, простые производственные операции и т. п., состоит в неизменно свойственной всем этим актам довольно значительной вариативности кинематического рисунка или параметров кинематических уравнений, описывающих эти движения. Далеко не всегда удается выявить приспособительный смысл наблюдаемых вариаций между циклами движения (обусловливаемых, например, неровностями дороги при ходьбе, порывами ветра, сопротивлением материала или противника и т. д.). Значительный, так сказать, остаточный разброс между последовательными повторениями движении, наблюдаемый и при идеальном равенстве и постоянстве всех внешних условий, нельзя, судя по всему, относить полностью и за счет недонаблюденных, ускользающих от внимания факторов. Создается впечатление, что организму (по удачному выражению одного из моих коллег) в каких-то пределах и в каких-то направлениях «все равно», будет ли очередной цикл движения кинематически реализован так или на n сантиметров, или на t десятых долей секунды иначе.
Подчеркиваю сразу, что в навыковых движениях описываваемого рода амплитуда наблюдаемого разброса принимает очень разные значения как по разным пунктам исполнительного органа, так и по смысловым фазам движения. По ходу приближения к целевым точкам движения, например в актах с установкой на меткость, эта амплитуда стремится к нулю, обеспечивая там, где это требуется задачей движения, совершенно поразительную точность (например, в баллистических движениях типа удара по мячу в теннисе, удара по шару на биллиарде, в акте стрельбы и др.). Таким образом, разброс, если и ведет себя с чисто стохастическим безразличием («все равно») по отношению к общей обстановке движения и наличию или отсутствию внешних мелких воздействий, то оказывается очень строго функционально регламентированным по отношению к смысловым фазам и задачам движения.
Нужно сказать, что разброс описываемого типа и облика не является принадлежностью одних лишь навыковых произвольных движений, а наоборот, выглядит как очень широкий, буквально всеобъемлющий принцип. Мы сталкиваемся с ним и в движениях гладкой мускулатуры (например, в кишечной перистальтике), в движениях беспозвоночных, не имеющих поперечнополосатой мускулатуры, в последовательных циклах электрокардиограммы, в колебаниях мерцательного эпителия или ресничек инфузорий и т. п.
Несомненно, следует сразу отвергнуть обезличивающие и непринципиальные попытки описания явлений разброса посредством привычных и машинально применяемых кривых распределения Гаусса или Пирсона. Помимо того, что такие описания очень мало информативны именно в силу своей безличности, важно то, что функции распределения Гаусса и Пирсона принципиально построены для отражения состояний или процессов в совокупностях очень высоких численностей неиндивидуализированных или даже неразличимых объектов. Но закономерности, характерные для секстильонов тождественных между собой неорганических молекул или ионов, не могут не отличаться по самому существу от функций, пригодных для отображения поведения существенно неоднородных коллективов умеренной численности7, какими являются коллективы высокодифференцированных нервных клеток, мышечных волокон, элементов многих паренхиматозных органов и т. д. К последним видам функций необходимо подойти с принципиально иным математическим аппаратом.
Заметив прежде всего, что обсуждаемая вариативность и приспособительная, и стохастическая относится всегда только к несущественным в нашем смысле слагающим и параметрам движения, никогда не отражаясь на реализации его существенных целевых характеристик, мы, естественно, приходим к мысли, что в этой группе явлений необходимым образом отражаются черты своеобразной субординационной структуры управления, присущей двигательному аппарату. В самых общих, еще во многом предположительных очертаниях я попытался отобразить такую неодноуровневую структуру в своей монографии «О построении движений» (1947).
В последние годы наблюдаемая здесь субординация смогла получить в своих главных чертах и моделирующее математическое выражение, и экспериментальное подкрепление в ряде работ И. Гельфанда, В. Гурфинкеля и М. Цетлина8 с сотрудниками.
Согласно модели этих авторов, вышестоящий управляющий прибор мозга направляет по эфферентным путям в низовые (спинальные) инстанции не конкретные и детализированные команды мышцам, а команды о включении тех или иных рабочих матриц, выработавшихся ранее и локализованных, по многим данным, в сегментарных аппаратах спинного мозга в составе альфа- и гамма-нейронов, афферентных нейронов разных видов и качеств и так называемой интернейронной среды. Будучи включенной, каждая подобная функциональная матрица обладает достаточной степенью автономности в осуществлении соответствующих элементов двигательного акта, маневрируя и переключая свои составляющие либо по приказам мозговых приборов сличения о возникшем рассогласовании, основанным на афферентной сигнализации, либо, по-видимому, в тех случаях, когда ситуация оказывается почему-либо непосильной для данной матрицы, вызывая со стороны соответствующей сегментарной системы своего рода сигналы апелляции к вышестоящим органам мозга. Структурно описываемые низовые матрицы находятся в близкой аналогии с игровыми, причем поведение их функционально связано с какими-то еще неуясненными категориями афферентных сигналов, выполняющими на этом уровне роль «платы» или «штрафа».
Сейчас нам более важно отметить две другие стороны функционирования этих субординированных систем. Во-первых, мы необходимо должны приписать низовым матричным приборам не только способность к накапливанию опыта, т. е. к формированию своих связей и «тактик» на основании испытываемых взаимодействий с внешним миром, но и активный поиск оптимальных форм «игры с природой», которую они ведут. С этой точки зрения тот «остаточный» разброс, о котором было упомянуто выше и которому, по-видимому, не приходится приписать реактивно-приспособительного значения, будет правильным охарактеризовать как разброс поисковый — как активные формы прощупывания обстановки, ее градиентов, оптимальных направлений действования и т. п.
Во-вторых же, если в самом деле вариативность и разброс возникают за счет функциональных свойств сегментарных матриц, выполняющих важную роль «подслаивания» существенных компонент действия и приспособления последнего к внешним условиям и помехам, то качественные математические характеристики наблюдаемых разбросов должны самым прямым образом зависеть от строения и форм целесообразных взаимоотношений между обоими субординационно связанными уровнями. А это означает, что функции разброса в каждом данном случае являются своего рода отображениями такого строения и таких форм. Если эта мысль справедлива, то сами по себе процессы управления актами действия, трудно доступные как для регистрации, так и для прямой математической интерпретации, смогут найти последнюю в своих отображениях через функцию разброса, во всем их широком качественном разнообразии и своеобразии. Какими именно алгоритмами эти функции окажутся связанными со своими оригиналами и будут ли эти алгоритмы изобразимыми в существующих сегодня понятиях и символах математики, — это уже вопрос непринципиальный.
Вместе с тем эта частная задача вплотную подводит нас к одному очень общему и важному вопросу — вопросу о математической интерпретации в биологии и физиологии.
Переживаемый нами период характеризуется комплексированием методов и стремлением к общему языку и совместной работе ученых разных специальностей. В частности, этот процесс проявляется возрастанием интереса и внимания математиков к биологическим проблемам и их математическому моделированию.
В начальных фазах попытки такого сближения математиков с биологией принесли с собой много разочарований. Как с грустью выразился в начале этого периода один из представителей биологического круга наук, «биологи понимают, но не умеют, а математики умеют, но… не понимают!».
Действительно, обращавшиеся к вопросам биологии ученые-математики далеко не сразу убедились, что находящийся в их руках великолепный аппарат, выработавшийся для анализа задач о неживой природе и безукоризненно обслуживающий проблематику физики и химии, неадекватен для освещения того нового круга вопросов, за который они с известной долей заносчивости взялись. По-видимому, сейчас этот начальный фазис недопонимания уже изжит или близок к этому, и передовые математики успели ясно представить себе, что их вооружение, перед которым не выстаивает ни одна твердыня неживой природы, не в силах пока созвучно выразить своеобразия, присущего проблемам жизни.
Теперь стало очевидным, что на путях математизации биологических наук речь должна идти не о каком-то приживлении или подсадке математики к биологии извне (именно такие попытки делались и, несомненно, еще будут делаться впредь), а о выращивании новых, биологических глав математики изнутри, из самого существа тех вопросов, которые ставятся перед нами науками о жизнедеятельности. Оснащенные (может быть, уже в недалеком будущем) настоящим, адекватным математическим аппаратом, биология и биокибернетика сольются тогда в синтетическую науку, которая станет для них новой и высшей ступенью.
Осветить в меру своих возможностей один из малых, но перспективных уголков этой новой, влекущей к себе широкой долины познания, которая открывается перед нами, как перед путником, поднявшимся на очередную вершину высокогорного хребта, было задачей автора. Это и привело к публикации настоящей книги.
1 Предисловие к монографии К. С. Тринчера «Биология и информация». Изд. «Наука». М., 1964.
2 Даваемая здесь формулировка представляется мне и более общей и более точной, чем, например, тезис о том, что целенаправленность действий биологического объекта определяется его потребностями. В самом деле, последнее понятие не приложимо ни к клеточному, ни тем более к молекулярному уровню, к которым безоговорочно приложима понятие негэнтропии.
3 Отметим одну правильную мысль, высказанную уже в прошлом столетии: целесообразность того или иного устройства в организме еще отнюдь не предрешает его совершенства. Целесообразность подразумевает соответствие устройства разрешаемой им задаче лишь в меру реальных возможностей данного организма.
4 Еще К. Гольдштейном в 20-х годах нашего столетия было справедливо отмечено, что по крайней мере до тех пор, пока процессы типа иррадиации, концентрации, корковой мозаики возбуждений и торможений и т. п. не будут подтверждены прямым (электрофизиологическим) наблюдением, они остаются не более объективными по своему уровню, чем любые понятия из области психологии или бихевиоризма. Время научило нас обращаться с идеей «черного ящика» более осторожно, не пытаясь преждевременно конкретизировать внутримозговую электрофизиологическую картину явлений по внешним наблюдаемым отношениям типа передаточных функций, запечатления и экфории энграмм, внешних проявлений механизмов сличения и санкционирования и т. п. Рецидивы попыток такой конкретизации, вроде модельных нервных сетей Клини или гипотетических нейронных схем Мак Каллоха и Питтса, уже никак не удовлетворяют современную теоретическую биокибернетику.
5 «Башня молчания», на которую в начале этого века возлагались большие надежды в смысле создания посредством нее возможности предъявления подопытным животным «химически чистых» раздражителей, огражденных от вмешательства всякого рода «шумовых» и фоновых примесей, вскоре же разочаровала ее создателей, оказавшись сама по себе сильнейшим раздражителем для животного, попадавшего там в биологически совершенно незнакомую обстановку, резко настораживающую весь ориентировочный аппарат его. В наши дни аналоги этой башни — экспериментальные сурдокамеры сооружаются и применяются уже вполне сознательно, именно с целью выяснения выносливости человека к длительному пребыванию в условиях полного отключения внешней стимуляции.
6 Статья — предисловие «О перспективах математики в биокибернетике» к книге В. Черныша и А. Напалкова «Математический аппарат биологической кибернетики». Изд. «Медицина», М., 1964.
7 Приближенные расчетные методы для коллективов такого типа, разработанные в вариационной статистике (Стюдент, Пирсон и др.), преследуют одни только вычислительные, а не познавательные цели.
8 И. Гельфанд, В. Гурфинкель, М. Цетлин. О тактиках управления сложными системами в связи с физиологией. В сб.: Биологические аспекты кибернетики. Изд. АН СССР, 1962; М. Цетлин. Усп. матем. наук, 1963, т. 18, в. 4 (112); И. Пятецкий-Шапиро и М. Шик. Биофизика, 1964, т. 9, в. 4.