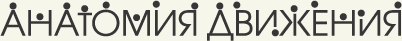ПРЕДИСЛОВИЕ H. А. БЕРНШТЕЙНА[*]
Пережившая период расцвета и дряхлеющая теория может разрушиться и выйти из строя прежде всего в том случае, когда она вступит в непримиримое противоречие с потоком новых фактов и отношений, выявляющихся в экспериментах. Иногда — постепенное накопление данных, не укладывающихся в старую теорию, иногда — один-единственный факт или феномен, поражающий ее в самое сердце, оказываются причиной необходимости ее безотлагательной смены; иногда, наконец, науке приходится долго ждать того момента, пока появится на поле битвы гениальный прозорливец, который сумеет найти и сформулировать свежую, мощную концепцию, убивающую прежние взгляды уже одним фактом своего неоспоримого преимущества перед ними.
Так было, например, с крушением беспринципной, сложной и ничего не объясняющей астрономической системы Птолемея, которая не могла выстоять против ясной и убедительной теории Коперника и Кеплера. То же, двумя столетиями позже, случилось с теорией флогистона, или теплорода: открытия Ломоносова и Лавуазье, а за ними — открытие кислорода, приведшее к правильному истолкованию процессов горения, быстро и неоспоримо выявили всю абсурдность концепции флогистона с отрицательным весом. Такое же бесповоротное крушение испытали, уже на рубеже текущего столетия концепции ньютоновских абсолютных пространства и времени, не смогшие выдержать конкуренции ни с новыми опытными данными, ни, главное, с гениальными обобщениями Эйнштейна.
В других случаях смена естественнонаучных теорий совершается не столь революционно, как было в приведенных выше исторических примерах. В случаях этой группы замена старой теории происходит не потому, что вскрылась какая-либо ошибочность или неправомерность этой теории. Приходящая на смену ей молодая концепция берет над ней верх либо потому, что ей оказывается под силу обобщить, охватить единой формулировкой гораздо более широкий круг явлений, чем прежде, либо благодаря тому, что она оказывается обладающей гораздо большей эвристической силой. Ярким примером такой обобщающей теории является теория электромагнитного поля, созданная Максвеллом на основе обобщения фактов, открытых Фарадеем и Эрстедом. Появление этой теории, знаменитых Максвелловских уравнений, позволило охватить единой формулировкой такие области физики, которые до этого трактовались как совершенно разные между собой разделы. Теория Максвелла смогла обозреть, как с птичьего полета, разом и учение о свете, и теорию лучистой теплоты, и электромагнитную индукцию и прямо привела к предсказанию волн, открытых Герцем и легших в основу радиотехники.
Не менее выразительный пример сказанному дает создание кинетической теории газов и растворов, которая также ничего не опровергла и не уличила в ошибках, но открыла такие широкие пути к предсказанию и обнаружению новых закономерностей, которые и не мыслились до ее появления.
Тот перелом, который переживает в наши дни биология со всем кругом входящих в нее наук о живой природе, явственно принадлежит также к этой группе ревизии и углубления старых понятий. Самая выразительная черта этого процесса — в непрерывно возрастающем на наших глазах богатстве обобщений, прямо наводящих исследователя на новые эксперименты и поиски; наряду с этим тот же переломный процесс рождает новые понятия, термины, формулировки, которые встают на службу науке в роли более совершенных, сильных и строгих орудий научного прогресса. На первом месте среди этих орудий стоит та совокупность теоретических и прикладных направлений, которая объединяется под названием кибернетика.
Каждая наука перерастает стадию чистого эмпиризма и становится наукой в точном смысле слова в тот момент, когда она оказывается в состоянии четко применить к каждому явлению в своей области два определяющих вопроса: 1) как происходит явление и 2) почему оно происходит. Первый вопрос побуждает к поискам сперва качественных описаний, а затем и количественных характеристик явлений. Второй вопрос требует постановки всех суждений об этих явлениях на почву строгой причинности и ведет к формулированию законов протекания и зависимости этих явлений, тоже вначале — качественно описательных, а в дальнейшем — облеченных в строгие формы математических моделей установленной причинной зависимости.
Достаточно проследить историю возникновения и развития любой науки в неживой природе, чтобы убедиться в справедливости сказанного. В одних науках эти моменты переключения на пути точного описания явлений («как»), а затем выявления их причин и зависимостей («почему») наступали раньше, в других — позже, но, по-видимому, к нашему времени нет уже ни одной науки о неживой природе, которая не владела бы уже в полной мере обоими кардинальными вопросами в своей методологии.
Биологические науки: физиология, патология, психология и генетика в лице своих самых сильных деятелей и методологов стремились подчинить явления наблюдаемых ими областей тем же двум кардинальным вопросам. По линии вопроса «как» при всей сложности и трудности точных количественных описаний жизненных явлений неуклонно прогрессировали и техника наблюдения, и совершенство измерительных приборов. По линии причинности, хотя тоже с преодолением трудностей на много больших, чем в науках о неживой природе, но все же непрерывно обогащался фонд утверждений, безусловно выявлявших причинные связи явлений между собой и даже допускавших (правда, нечасто) количественные, математические формулировки.
Но чем далее, тем отчетливее стала проступать в науках биологического цикла одна поразительная черта. В физике, в химии, в астрономии, где только удавалось обнаружить и выразить причинный закон тех или иных явлений, этот закон оказывался безоговорочно определенным и для данной стадии глубины познания — исчерпывающим и строгим. В биологии же при каждой попытке формулировки закона явлений либо никак не удавалось перевести такой закон в математически строгую форму, либо нельзя было не почувствовать, что в нем не хватает чего-то весьма существенного, может быть, даже решающего. Пробовали, и неоднократно, объяснять эту «скользкость» биологических формулировок огромной сложностью вопроса и изобилием привходящих переменных, но нельзя было не заметить, что дело глубже и принципиальнее. То, что по всем признакам казалось законом (в физиологии, психологии и т. д.), бывало, как правило, совершенно лишено предсказательной силы, и потому, рано или поздно, приводило с неизбежностью в теоретический тупик. Самый же грозный критерий годности концепции, претендующей на звание закона, — ленинский критерий проверки через практику, — в очень высоком проценте случаев приводил к выводу, что с законом здесь что-то не в полном порядке.
Многочисленные наблюдения и факты во всевозможных проблемах биологии указывали ученым еще в прошлом столетии на неоспоримую целесообразность механизмов и систем, присущих живым организмам. Эта целесообразность бросалась в глаза как резкое, может быть даже решающее, отличие живых систем от каких бы то ни было феноменов неживой природы. Сам собой неминуемо напрашивался вопрос: «для чего» существует и служит то или иное приспособление в организме, к какой цели оно направлено, какую задачу, четко доступную наблюдению, оно предназначено решать. Во все большей мере стала откристаллизовываться мысль, а не потому ли биолога постигает неудача или неудовлетворенность при попытке решения того или иного вопроса, что применительно к биологическим объектам, кроме вопросов «как» и «почему», исчерпывающе достаточных в физике или химии, необходимо добавить еще третий вопрос: «для чего»?
Этот вывод не мог не пугать механистов-материалистов XIX столетия. Допустимо ли считать, что цель действия, — нечто такое, что должно осуществиться, стать реальностью, только в будущем времени, — может являться причиной наступления этого действия? Причина — позднее, чем ее следствие! Только идеалистическому финализму (казалось) под стать и приемлемы такие антиматериалистические построения.
В некоторых случаях путем поистине гениального хода мысли удавалось полностью обосновать и объяснить целесообразность жизненных проявлений, не выходя за пределы вопросов «как» и «почему». Это сумел, например, сделать Дарвин с помощью созданных им концепций борьбы за жизнь и выживания наиболее приспособленных (survival of the fittest). Действительно, здесь, не переступая границ строгого закона причинности, было возможно показать, как чисто случайные явления наследственно передаваемых мутаций могут быть отсеяны и превращены в целесообразные усовершенствования организмов и в определяющие факторы эволюции. Но нельзя не заметить того, что, во-первых, среди необозримого круга проблем биологии построения, подобные дарвинизму, являются скорее нечастым исключением, нежели общим правилом; а, во-вторых, и в самой системе дарвинизма стали чем дальше, тем в большем количестве проступать «белые пятна» недорешенных вопросов, неясностей и прямых необъяснимостей.
Между тем наличие не только статичной целесообразности, но и проявлений динамичной, активной целеустремленности во всех областях, относящихся к ведению биологии, стало делаться уже совершенно неоспоримым. Первые же истоки кибернетического изучения вопросов управления, регулирования и связи сразу отметили глубокий параллелизм между искусственными системами саморегуляции и устройствами, наблюдаемыми на живых объектах. Но ведь искусственные устройства этого рода создаются человеком с определенной целью, как бы обогащая собой возможности самого человеческого организма, становясь надстроенными над ним более мощными и эффективными органами человека; путь к достижению цели каждым из таких устройств осуществлен и закодирован в виде заложенной в него программы функционирования. Теснейшая формально-конструктивная и целевая аналогия между этими преднамеренно создаваемыми системами и системами управления и регуляции в организмах прямо устремляет нашу мысль к тому, чтобы признать и за органами и системами последних несомненную и решающе важную целенаправленность, а тем самым — полную правомерность по отношению к ним вопроса «для чего».
Но параллели, обнаруженные и исследованные кибернетикой, позволили перешагнуть через ту самую методологическую трудность, которая казалась непреодолимой механистически мыслившим материалистам прошлого века.
Цель, находящаяся в предстоящем, не может сама по себе являться причиной явлений и действий, происходящих сейчас. Это неоспоримо для нас в той же мере, как было и для наших предшественников сто лет назад. Но нам теперь известно, и было многократно проверено на искусственных системах саморегуляции, что такая, еще только предстоящая, намеченная на будущее задача или цель может быть закодирована и заключена в «память» устройства в виде модели ее, реально существующей в настоящее время. И эта кодированная «модель потребного будущего» (как я назвал ее в одной из предшествующих работ) и программа действия, направленного на разрешение данной задачи, на достижение цели, возникают раньше, чем то действие, которое они совместно обусловливают. Закон причинности, таким образом, не терпит никакого ущерба, и идея целесообразности и целеустремленности организмов, решающим образом отличающих последние от феноменов неживой природы, может прочно покоиться на фундаменте диалектического материализма. Это то, чего не знали и не могли еще знать наши предшественники — биологи.
Однако важнейшая черта всех живых систем, функционирующих на базе трех описанных выше вопросов (т. е. также вопроса «для чего»), стала выясняться позже других, несмотря на то, что именно она, возможно, является самой главной и определяющей. Этой черте следует присвоить название активности (физиологической и биологической).
Чем в наибольшей степени характеризуется целеустремленность? Организм все время находится во взаимодействии с окружающей его средой, внешней и внутренней. Если его движение (в обобщенном смысле) имеет одинаковое направление с движением среды, оно осуществляется гладко и бесконфликтно. Но если программное движение к определившейся цели требует преодоления среды, организм щедро отпускает негэнтропическую энергию на такое преодоление, пока он или восторжествует над средой, или погибнет. Среда, как это термодинамически присуще всем неживым совокупностям, движется всегда в направлении возрастания энтропии; организм в своем онтогенетическом развитии и формировании и в своей активности по ходу жизни движется, как правило, антиэнтропически, достигая повсюду крутого снижения энтропии в самом себе и в преодолеваемом окружении. Разумеется, такой результат достигается благодаря тому, что организм как открытая система покупает этот негэнтропический эффект ценой метаболического повышения энтропии окисляемых и разрушаемых им продуктов обмена веществ, которые он выводит наружу.
Теперь можно считать полностью понятным, почему биологов, ограничивавших себя только вопросами «как» и «почему», каждый раз постигала неудача. Здесь можно было бы привести очень много выразительных примеров: я ограничусь одним, как наиболее близким к теме настоящего предисловия и всей монографии д-ра Л. В. Чхаидзе. Это пример рефлекторной теории.
Теория рефлекса (по схеме дуги) считала возможным рассматривать этот механизм как основной кирпич, из монтажа которого с другими подобными следует надеяться построить полную теорию поведения. Эта уверенность в особенности укрепилась после павловского открытия феномена условных замыканий, т. е. весьма гибких переключений рефлекторных дуг безусловных рефлексов. Рефлекс по схеме дуги — это ведь в самой строгой форме модель закона причинности: раздражения и его путь по афферентной полудуге — причина; реакция и путь ее следования по эффекторным нейронам — ее обязательное следствие. Отсюда вытекало, во-первых, что все преобразование благоприобретенных рефлексов, все накапливаемые в течение жизни условные замыкания целиком определяются теми воздействиями из среды, которые сообщаются мозгу по афферентной полудуге, т. е. что организм идет фактически на поводу у среды и ее воздействий. Во-вторых, это давало повод к формулировкам, которыми широко пользовался И. П. Павлов: жизнь есть взаимодействие организма со средой и притом уравновешивание с этой средой. И то бесспорное обстоятельство, что, хотя бы посредством движений, организм не просто взаимодействует со средой, а активно воздействует на нее, добиваясь изменения ее в потребном ему отношении; и тот факт, что жизненная динамика только и возможна, когда есть налицо недоуравновешенный остаток, говорят против этих прежних формулировок. Не равновесие со средой и не уравновешивание с ней определяют жизнедеятельность и поведение каждого организма, а та модель потребного ему будущего, которая является двигателем того и другого и, повинуясь которой, организм, можно сказать, не придает значения тому, приходится ли в направлении к намеченной цели двигаться по течению или против течения. Он движется всю свою жизнь, несмотря ни на какое «течение» в воздействующей на него среде.
Очень характерным пробелом в рефлекторной теории, прямо обусловленным неприятием в расчет вопроса «для чего», является трудность трактовки в ее рамках важнейшей функции обобщения. Когда у животного вырабатывается новый рефлекс путем повторных предъявлений ему условного стимула с соответствующим подкреплением, то, как известно, в первой фазе его формирования имеет место иррадиация, т. е. неразборчивость нервной системы к целой широкой группе сходственных раздражителей. Легко убедиться, что такая иррадиация не имеет ничего общего с явлением обобщения уже потому, что иррадиация быстро преодолевается в последующих фазах выработки и сменяется на концентрацию, которая одна только и делает объяснимым факт создающихся в дальнейшем очень чутких дифференцировок. Таким образом, иррадиация предстает перед нами в этом процессе как безусловно отрицательное явление, которое образно лучше всего сравнить со снимком, расплывчатым вследствие плохой наводки на фокус. Наоборот, обобщение есть ярко положительный, существенный для индивида комплекс механизмов. Собственно говоря, никакой благоприобретенный (условный) рефлекс при самой тонкой его дифференцировке не обогащает сам по себе жизненного опыта особи, оставаясь чем-то эпизодическим и не включенным ни в какую классификацию, пока не начнет функционировать процесс обобщения. Этот процесс всегда активен: его классифицирующая функция возможна не иначе как при наличии направляющих для классификационного отнесения; а эти направляющие могут найти объяснение своего происхождения только по линии вопроса «для чего». Любое множество элементов, вообще говоря, может быть систематизировано и расклассифицировано десятками способов; чем же обусловливается то, что организм каждый раз избирает одну определенную схему упорядочивания множества воздействий окружающей среды, если он не базирует свой выбор на целевой значимости, т. е. именно на категории «для чего»?
П. К. Анохиным описан под названием «акцептора действия» механизм, несомненно связанный с этой группой центрально-нервных механизмов. Задача акцептора, по Анохину, — в определении того момента, когда требовавшийся результат действия достигнут, и в отдаче подчиненным аппаратам команды об обстановке. Но, очевидно, информация, поступающая в такой акцептор с периферии от работающих органов и объектов их воздействия, должна быть для срабатывания этого механизма акцептации сличена с ранее выработанной внутренней информацией. Легко понять, что источником этой последней может являться только «модель потребного будущего», о которой было сказано выше.
Попутно заслуживают упоминания сравнительно высокоорганизованные животные (а равным образом и растения), у которых эта кодовая модель будущего несомненно становится более сложной, расчленяясь по сути дела на две модельные формы. В других работах я обозначил эти две сосуществующие модели как 1) модель потребного и 2) модель вероятного (прогнозируемого) будущего. Только на самых низших ступенях развития (одноклеточные организмы, низшие черви и т. п.) организм «знает», что для него нужно, но движется по направлению к своему потребному будущему, так сказать, напролом, на основе самой примитивной ориентировки. Высшие организмы проявляют свою активность, опираясь на вероятностное прогнозирование того, куда направлены текущие изменения в окружающей среде и какие внезапные (высокоинформативные) явления следует с известной вероятностью учитывать заранее. Наряду с животными неоспоримые прогностические механизмы имеют место и у растений, и не случайно опытный агроном или лесовод делает заключения о предстоящих переменах в метеосфере по заблаговременным реакциям тех или иных растительных видов: складыванию листьев, смыканию цветочных чашелистиков, пониканию или распрямлению стебля и т. п.
Схема управления двигательными актами, предложенная в свое время Л. В. Чхаидзе и подробно обосновываемая в первой части настоящей книги, заслуживает серьезного внимания благодаря впервые отмеченным и подчеркнутым им существенным характеристикам этого управления. Все изложенное выше относительно физиологической активности и моделирования будущего было необходимо именно для того, чтобы обоснованно выявить то ценное, что отмечается этой схемой.
Скажу здесь сразу, что в известной мере уязвимым местом схемы Чхаидзе, несомненно, является не нужно схематизированное резкое разграничение между собой не только первичных информационных потоков от экстероцепторов и от проприоцепторов, но и их дальнейших внутримозговых маршрутов, вплоть до замыкания соответственных рефлекторных колец. Такое разделение неправомерно прежде всего потому, что первичные афферентные потоки уже в самых низовых клеточных ядрах мозга преобразуются самым существенным образом (для зрительной функции, например, такое глубокое изменение совершается уже в нервных клетках самой сетчатки глаза). Центральных аппаратов, выполняющих действительные функции управления и координации, достигают уже глубоко и активно переработанные сенсорные синтезы, в которых срастаются между собой до неузнаваемости обработанные в низовых ядрах сигналы от всевозможных видов периферических рецепторов[**]. Но, конечно, не в этом суть дела, и уточнение схемы в указанном отношении отнюдь не имеет значения какого-либо принципиального изменения и не затрагивает того реально существенного, что дается этой схемой. Это существенное заключается в следующем.
Та очередная модель потребного будущего, которая обусловливает собой инициативу и запуск отвечающего ей действия, направляет собой главную смысловую планировку этого действия. В одной из работ я сравнил этот процесс планирования действия со своеобразной интерполяцией, — с определением тех последовательных стадий или этапов действия, которые необходимы для достижения требующегося результата. Но очень важной чертой такой планирующей интерполяции является всегда ее обобщенность. Руководящий центр, намечающий (или, по Чхаидзе, «задающий») план действия, его смысловую структуру и, отчасти, его двигательный состав, никогда не спускается до буквальной детализации элементов двигательного акта. Можно сказать, что его продукцией является не та или другая отдельная функция, а целый пакет или семейство функций, объединяемых и обобщенных по какому-то принципу. Принцип этот, заметим, всегда в конечном счете избирается как возможный ответ все на тот же вопрос «для чего».
Конкретизация такого обобщенного приказа, выбор того или другого частного решения в сообразовании с обстановкой, наконец, процесс непрерывающегося координационного сличения текущей афферентной сигнализации с требованиями программы — все это достается на долю подчиненной инстанции (или, может быть, целой иерархии инстанций), ведущей и корригирующей движение, обеспечивая его правильность и целесообразность.
Ценность схемы, предложенной Л. В. Чхаидзе, как раз и состоит в четком разграничении обоих командных аппаратов, с указанием отношения подчиненности между ними. Фигурально можно позволить себе сказать, что новое и ценное заключается в верхней половине рассматриваемой схемы, нимало не теряющей своей значимости от тех коррективов, в которых нуждается ее нижняя часть (см. рис. 12).
Важнейший факт обобщенности тех верховных команд, которые определяются в результате активного моделирования действия, может быть доказан и подкреплен очень широким кругом наблюдений. Прежде всего, следует вспомнить здесь о феноменах переключений и перестроек внутри нервной системы. Как мы видели, рефлекторная концепция является в вопросах, касающихся осмысленных обобщений, совершенно бессильной. Почти пассивное накапливание единичных элементов опыта жизни, которое только и может проистекать из условных замыканий, случайно приобретаемых то там, то сям, может объяснить нам, самое большее, ту или иную форму интерполирования между этими элементами. Но той обязательной экстраполяции, которая необходима для каждого умозаключения по индукции, рефлекторная концепция объяснить не в состоянии.
Между тем опыты показывают, что живое существо, попав впервые в жизни даже в условия, в которых заведомо никогда ранее не оказывалось ни оно само, ни его предки, чрезвычайно быстро, нередко прямо сразу, перестраивается во всю меру необходимости для действования в этих условиях, как бы они ни были сами по себе необычны или прямо чудовищны. Если просмотреть, хотя бы бегло, обширный список экспериментов на всевозможных видах животных, как позвоночных, так и членистоногих, с тем или иным изувечиванием их органов передвижения (опыты Бэте, Гольдштейна, Тренделенбурга, Асратяна, Анохина и др.), то во всех этих опытах явственно проступает одна черта, общая для всех наблюдавшихся результатов. Необходимая для восстановления локомоции координационная перестройка наступает у подопытных животных либо сразу (немедленно после травмы — у насекомых или после заживления операционной раны — у млекопитающих), либо же, во всех остальных случаях без изъятия, — во много раз быстрее, чем вырабатывается у тех же видов животных любой лабораторный условный рефлекс. Бэте ампутировал у жуков по одной, по две и даже по три конечности из шести, и каждый раз на место присущей этому насекомому точной программы ритмического чередования ног при ходьбе — мгновенно, без подготовки или упражнения — являлась на смену новая программа, резко по необходимости отличающаяся от естественной, но вполне слаженная и годная для выполнения локомоции. Конечно, было бы абсурдом предположить, что у данного экземпляра насекомого (и, стало быть, у всех особей этого вида, так как любая из них могла оказаться объектом ампутационного опыта) изначально, с момента рождения, заложены где-то в долговременной памяти координационные программы для всех мыслимых вариантов подобных ампутаций, — этого не могла бы объяснить никакая теория эволюционных приспособлений.
В опытах на собаках и кошках (Асратян, Анохин с сотр.) как с ампутациями, так и с экспериментальными перекрестами сухожилий сгибателей и разгибателей на одной из конечностей перестройка на уверенную локомоцию, правда, не совершалась сразу (что может объясняться, по-видимому, более сложными условиями координации движений у позвоночных животных по сравнению с членистоногими), но во всех случаях и при всех вариантах опыта осуществлялась значительно быстрее, чем выработка любого слюнного условного рефлекса у тех же животных. Очевидно, что по любой схеме из числа стремящихся объяснить все явления поведения через посредство условных замыканий дело должно было бы обстоять наоборот: синтез, или структура, или цепь из условных рефлексов никак не могла бы образоваться в целом быстрее, чем каждый входящий в нее новообразуемый условный рефлекс по отдельности. Значит, объяснение — не в этом.
Я упомяну здесь всего лишь в нескольких словах о фактах, подробнее проанализированных мной в других работах, фактах, несравненно менее эксквизитных и травматических, но не менее доказательных. Если человек пишет один раз пером на бумаге, другой раз — мелом на вертикальной классной доске, один раз — мелко, другой — крупно и т. д., этот процесс выполняется им в каждом из случаев посредством иной кинематической цели и другими наборами мускулатуры; между тем, во всех этих случаях облик его почерка сохраняется с точностью, не оставляющей никаких сомнений в принадлежности этого почерка данному лицу. Но, более того: если осуществить на человеке своего рода модель ампутации, укрепляя карандаш у его запястье или локтя, или предлагая ему зажать карандаш в зубах, как если бы он был вовсе лишен руки, и то при всех подобных вариантах опыта, вплоть до самых диковинных, вроде писания носком левой ноги и т. п., почерк, присущий данному инвалиду, выявляется сразу вполне отчетливо и без всякой предварительной тренировки. Буквы получаются угловатыми, линии — нетвердыми, но существенные черты почерка, его индивидуальный характер выявляется без всякой натяжки.
Насколько и эти последние, чисто внешние координационные дефекты могут изгладиться после тренировки, показывают сохранившиеся в моей коллекции образцы письма инвалидов без обеих рук: в этих образцах письмо, выполненное ручным протезом, писание карандашом, зажатым в зубах, и письмо носком правой ноги почти невозможно отличить одно от другого.
Все приведенные и рассмотренные выше примеры, в полном взаимном согласии вытекающих их них следствий, говорят об одном капитальном факте: об огромной и целесообразной обобщенности тех команд, которые задаются верховной управляющей инстанцией подчиненным приборам конкретного координационного руководства движением или действием. Не элементы (рефлексы) являются первичным материалом, из которого безуспешно стараются построить обобщающие команды в качестве вторичного результата. Дело, по всем данным, происходит как раз обратно, и любая детализация программы двигательного акта должна рассматриваться как частное следствие порождающей ее, широко обобщенной и целесообразно упорядоченной командной матрицы управления.
Мысль о том, что вышестоящие центры управления осуществляют свою функцию путем спуска в низовые приборы (в данном случае — спинномозговые) своего рода командной матрицы, оставляющей этим низовым центрам широкую возможность приспособительного маневрирования, была в самое недавнее время высказана и облечена в математическую форму И. М. Гельфандом, В. С. Гурфинкелем и М. Л. Цетлиным. Концепция этих авторов, помимо своего полного созвучия с высказанным выше, интересна и эвристически плодотворна тем, что процессы, протекающие в низовых аппаратах в рамках спущенных к ним матриц, реализуются по их представлению в близкой формальной аналогии с процессами, изучаемыми теорией игр. Как возникшая два столетия назад теория вероятностей вначале мыслилась только как пособие для азартных и полуазартных развлечений, а впоследствии оказалась мощным средством изучения множества физических явлений, так на наших глазах случилось и с математической теорией игр. Далеко опередив свою первоначальную задачу, отраженную в ее названии, эта теория стала в настоящее время одним из ценнейших орудий кибернетического анализа. Особенно ценной, по понятным причинам, является она в вопросах физиологии и биологии активности: ее проблематика относится ко всем вопросам борьбы, конфликта с окружением, активного преодолевания этого окружения и т. д. Таким образом, мы видим, как проблематика активности все глубже врастает в физиологический анализ, в вопросы координации, поведения, центрального управления и т. д.
* К одной из работ автора, затрагивающей рассматриваемый в данной монографии вопрос, Н. А. Бернштейн написал в 1965 г. специальное предисловие. Поскольку высказанные им по данной проблеме соображения чрезвычайно важны для ее понимания, считаем целесообразным привести это предисловие в той части, которая содержит эти высказывания.
** В настоящей монографии это критическое замечание Н. А. Бернштейна учтено автором и привело к доработке некоторых представлений (Л. Ч.).